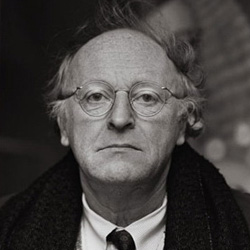Все стихи Иосифа Бродского
1867
В ночном саду под гроздью зреющего манго
Максимильян танцует то, что станет танго.
Тень возвращается подобьем бумеранга,
температура, как подмышкой, тридцать шесть.
Мелькает белая жилетная подкладка.
Мулатка тает от любви, как шоколадка,
в мужском объятии посапывая сладко.
Где надо – гладко, где надо – шерсть.
В ночной тиши под сенью девственного леса
Хуарец, действуя как двигатель прогресса,
забывшим начисто, как выглядят два песо,
пеонам новые винтовки выдаёт.
Затворы клацают; в расчерченной на клетки
Хуарец ведомости делает отметки.
И попугай весьма тропической расцветки
сидит на ветке и так поёт:
Презренье к ближнему у нюхающих розы
не лучше, но честней гражданской позы.
И то и это порождает кровь и слёзы.
Тем паче в тропиках у нас, где смерть, увы,
распространяется, как мухами – зараза,
иль как в кафе удачно брошенная фраза,
и где у черепа в кустах всегда три глаза,
и в каждом – пышный пучок травы.
1972 год
В. Г.
Птицы уже не влетают в форточку.
Девица, как зверь, защищает кофточку.
Поскользнувшись о вишнёвую косточку,
я не падаю: сила трения
возрастает с паденьем скорости.
Сердце скачет, как белка в хворосте
рёбер. И горло поёт о возрасте.
Это – уже старение.
Старение! Здравствуй, моё старение!
Крови медленное струение.
Некогда стройное ног строение
мучает зрение. Я заранее
область своих ощущений пятую,
обувь скидая, спасаю ватою.
Всякий, кто мимо идёт с лопатою,
ныне – объект вниманья.
Правильно! Тело в страстях раскаялось.
Зря оно пело, рыдало, скалилось.
В полости рта не уступит кариес
Греции древней, по меньшей мере.
Смрадно дыша и треща суставами,
пачкаю зеркало. Речь о саване
ещё не идёт. Но уже те самые,
кто тебя вынесет, входят в двери.
Здравствуй, младое и незнакомое
племя! Жужжащее, как насекомое,
время нашло, наконец, искомое
лакомство в твёрдом моём затылке.
В мыслях разброд и разгром на темени.
Точно царица – Ивана в тереме,
чую дыхание смертной темени
фибрами всеми и жмусь к подстилке.
Боязно! То-то и есть, что боязно.
Даже когда все колёса поезда
прокатятся с грохотом ниже пояса,
не замирает полёт фантазии.
Точно рассеянный взор отличника,
не отличая очки от лифчика,
боль близорука, и смерть расплывчата,
как очертанья Азии.
Всё, что я мог потерять, утрачено
начисто. Но и достиг я начерно
всё, чего было достичь назначено.
Даже кукушки в ночи звучание
трогает мало – пусть жизнь оболгана
или оправдана им надолго, но
старение есть отрастанье органа
слуха, рассчитанного на молчание.
Старение! В теле всё больше смертного.
То есть не нужного жизни. С медного
лба исчезает сиянье местного
света. И чёрный прожектор в полдень
мне заливает глазные впадины.
Силы из мышц у меня украдены.
Но не ищу себе перекладины:
совестно браться за труд Господень.
Впрочем, дело, должно быть, в трусости.
В страхе. В технической акта трудности.
Это – влиянье грядущей трупности:
всякий распад начинается с воли,
минимум коей – основа статики.
Так я учил, сидя в школьном садике.
Ой, отойдите, друзья-касатики!
Дайте выйти во чисто поле!
Я был как все. То есть жил похожею
жизнью. С цветами входил в прихожую.
Пил. Валял дурака под кожею.
Брал, что давали. Душа не зарилась
на не своё. Обладал опорою,
строил рычаг. И пространству в пору я
звук извлекал, дуя в дудку полую.
Что бы такое сказать под занавес?!
Слушай, дружина, враги и братие!
Всё, что творил я, творил не ради я
славы в эпоху кино и радио,
но ради речи родной, словесности.
За каковое раченье-жречество
(сказано ж доктору: сам пусть лечится)
чаши лишившись в пиру Отечества,
нынче стою в незнакомой местности.
Ветрено. Сыро, темно. И ветрено.
Полночь швыряет листву и ветви на
кровлю. Можно сказать уверенно:
здесь и скончаю я дни, теряя
волосы, зубы, глаголы, суффиксы,
черпая кепкой, что шлемом суздальским,
из океана волну, чтоб сузился,
хрупая рыбу, пускай сырая.
Старение! Возраст успеха. Знания
правды. Изнанки её. Изгнания.
Боли. Ни против неё, ни за неё
я ничего не имею. Коли ж
переборщит – возоплю: нелепица
сдерживать чувства. Покамест – терпится.
Ежели что во мне и теплится,
это не разум, а кровь всего лишь.
Данная песнь не вопль отчаянья.
Это – следствие одичания.
Это – точней – первый крик молчания,
царствие чьё представляю суммою
звуков, исторгнутых прежде мокрою,
затвердевающей ныне в мёртвую
как бы натуру, гортанью твёрдою.
Это и к лучшему. Так я думаю.
Вот оно – то, о чем я глаголаю:
о превращении тела в голую
вещь! Ни горе не гляжу, ни долу я,
но в пустоту, чем её ни высветли.
Это и к лучшему. Чувство ужаса
вещи не свойственно. Так что лужица
подле вещи не обнаружится,
даже если вещица при смерти.
Точно Тезей из пещеры Миноса,
выйдя на воздух и шкуру вынеся,
не горизонт вижу я – знак минуса
к прожитой жизни. Острей, чем меч его,
лезвие это, и им отрезана
лучшая часть. Так вино от трезвого
прочь убирают, и соль – от пресного.
Хочется плакать. Но плакать нечего.
Бей в барабан о своём доверии
к ножницам, в коих судьба материи
скрыта. Только размер потери и
делает смертного равным Богу.
(Это суждение стоит галочки
даже ввиду обнажённой парочки!)
Бей в барабан, пока держишь палочки,
с тенью своей маршируя в ногу.
24 декабря 1971 года
V.S.
В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных – слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
производит осаду прилавка
грудой свёртков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.
Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок;
запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.
И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою – нимб золотой.
Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства –
основной механизм Рождества.
То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть ещё, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.
Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица как пятна.
Ирод пьёт. Бабы прячут ребят.
Кто грядёт – никому непонятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.
Но, когда на дверном сквозняке,
из тумана ночного густого,
возникает фигура в платке, –
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь — звезда.
* * *
В деревне Бог живёт не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне он – в избытке. В чугуне
он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит. Выдаёт
девицу за лесничего. И в шутку
устраивает вечный недолёт
объездчику, стреляющему в утку.
Возможность же всё это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту.
* * *
Что дозволено Юпитеру,
не дозволено быку.
Каждый перед Богом наг.
Жалок, наг и убог.
В каждой музыке – Бах,
В каждом из нас – Бог.
Ибо вечность – Богам.
Бренность – удел быков...
Богово станет нам
сумерками Богов.
И надо небом рискнуть,
может быть, невпопад.
Ещё нас не раз распнут
и скажут потом: распад.
И мы завоем от ран,
потом взалкаем даров ...
У каждого свой храм.
И каждому свой гроб.
Юродствуй, воруй, молись!
Будь одинок, как перст!..
...Словно быкам – хлыст,
Вечен Богам крест.
На смерть Т.С. Элиота
I
Он умер в январе, в начале года.
Под фонарём стоял мороз у входа.
Не успевала показать природа
ему своих красот кордебалет.
От снега стёкла становились уже.
Под фонарём стоял глашатай стужи.
На перекрёстках замерзали лужи.
И дверь он запер на цепочку лет.
Наследство дней не упрекнёт в банкротстве
семейство Муз. При всём своём сиротстве,
поэзия основана на сходстве
бегущих вдаль однообразных дней.
Плеснув в зрачке и растворившись в лимфе,
она сродни лишь эолийской нимфе,
как друг Нарцисс. Но в календарной рифме
она другим наверняка видней.
Без злых гримас, без помышленья злого,
из всех щедрот Большого Каталога
смерть выбирает не красоты слога,
а неизменно самого певца.
Ей не нужны поля и перелески,
моря во всём великолепном блеске;
она щедра, на небольшом отрезке
себе позволив накоплять сердца.
На пустырях уже пылали ёлки,
и выметались за порог осколки,
и водворялись ангелы на полке.
Католик, он дожил до Рождества.
Но, словно море в шумный час прилива,
за волнолом плеснувши, справедливо
назад вбирает волны, торопливо
от своего ушёл он торжества.
Уже не Бог, а только Время, Время
зовёт его. И молодое племя
огромных волн его движенья бремя
на самый край цветущей бахромы
легко возносит и, простившись, бьётся
о край земли, в избытке сил смеётся.
И январём его залив вдаётся
в ту сушу дней, где остаёмся мы.
II
Читающие в лицах, маги, где вы?
Сюда! И поддержите ореол:
две скорбные фигуры смотрят в пол.
Они поют. Как схожи их напевы!
Две девы – и нельзя сказать, что девы.
Не страсть, а боль определяет пол.
Одна похожа на Адама впол-
оборота, но причёска – Евы.
Склоняя лица сонные свои,
Америка, где он родился, и –
и Англия, где умер он, унылы,
стоят по сторонам его могилы.
И туч плывут по небу корабли.
Но каждая могила – край земли.
III
Аполлон, сними венок,
положи его у ног
Элиота, как предел
для бессмертья в мире тел.
Шум шагов и лиры звук
будет помнить лес вокруг.
Будет памяти служить
только то, что будет жить.
Будет помнить лес и дол.
Будет помнить сам Эол.
Будет помнить каждый злак,
как хотел Гораций Флакк.
Томас Стернз, не бойся коз.
Безопасен сенокос.
Память, если не гранит,
одуванчик сохранит.
Так любовь уходит прочь,
навсегда, в чужую ночь,
прерывая крик, слова,
став незримой, хоть жива.
Ты ушёл к другим, но мы
называем царством тьмы
этот край, который скрыт.
Это ревность так велит.
Будет помнить лес и луг.
Будет помнить всё вокруг.
Словно тело – мир не пуст! –
помнит ласку рук и уст.
* * *
Ниоткуда, с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но не важно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесённом снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне –
как не сказано ниже, по крайней мере –
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца нет и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало, повторяя.
* * *
Когда теряет равновесие
твоё сознание усталое,
когда ступеньки этой лестницы
уходят из-под ног, как палуба,
когда плюёт на человечество
твоё ночное одиночество, –
ты можешь рассуждать о вечности
и сомневаться в непорочности
идей, гипотез, восприятия
произведения искусства –
и даже самого зачатия
Мадонной Сына Иисуса.
Но лучше поклоняться данности
с её глубокими могилами,
которые потом, за давностью,
покажутся такими милыми.
Да, лучше поклоняться данности
с короткими её дорогами
которые потом до странности
покажутся тебе широкими.
Покажутся большими, пыльными,
усеянными компромиссами,
покажутся большими крыльями,
покажутся большими птицами.
Да. Лучше поклонятся данности
с убогими её мерилами,
которые потом, по крайности,
послужат для тебя перилами,
хотя и не особо чистыми,
удерживающими в равновесии
твои хромающие истины
на этой выщербленной лестнице.
Одиссей Телемаку
Мой Tелемак,
Tроянская война
окончена. Кто победил – не помню.
Должно быть, греки: столько мертвецов
вне дома бросить могут только греки...
И всё-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной,
как будто Посейдон, пока мы там
теряли время, растянул пространство.
Мне неизвестно, где я нахожусь,
что предо мной. Какой-то грязный остров,
кусты, постройки, хрюканье свиней,
заросший сад, какая-то царица,
трава да камни... Милый Телемак,
все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь; и мозг
уже сбивается, считая волны,
глаз, засорённый горизонтом, плачет,
и водяное мясо застит слух.
Не помню я, чем кончилась война,
и сколько лет тебе сейчас, не помню.
Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова.
Ты и сейчас уже не тот младенец,
перед которым я сдержал быков.
Когда б не Паламед, мы жили б вместе.
Но может быть, и прав он: без меня
ты от страстей Эдиповых избавлен,
и сны твои, мой Телемак, безгрешны.
Одной поэтессе
Я заражён нормальным классицизмом,
а вы, мой друг, заражены сарказмом.
Конечно, просто сделаться капризным,
по ведомству акцизному служа.
К тому ж вы звали этот век железным.
Но я не думал, говоря о разном,
что, заражённый классицизмом трезвым,
я сам гулял по острию ножа.
Теперь конец моей и вашей дружбе.
Зато – начало многолетней тяжбе.
Теперь и вам продвинуться по службе
мешает Бахус, но никто другой.
Я оставляю эту ниву тем же,
каким взошёл я на неё. Но так же
я затвердел, как Геркуланум в пемзе.
И я для вас не шевельну рукой.
Оставим счёты. Я давно в неволе.
Картофель ем и сплю на сеновале.
Могу прибавить, что теперь на воре
уже не шапка – лысина горит.
Я эпигон и попугай. Не вы ли
жизнь попугая от себя скрывали?
Когда мне вышли от закона «вилы»,
я вашим прорицаньем был согрет.
Служенье Муз чего-то там не терпит,
зато само обычно так торопит,
что по рукам бежит священный трепет
и несомненна близость Божества.
Один певец подготовляет рапорт,
другой рождает приглушённый ропот,
а третий знает, что он сам – лишь рупор,
и он срывает все цветы родства.
И скажет смерть, что не поспеть сарказму
за силой жизни. Проницая призму,
способен он лишь увеличить плазму.
Ему, увы, не озарить ядра.
И вот, столь долго состоя при Музах,
я отдал предпочтенье классицизму,
хоть я и мог, как старец в Сиракузах,
взирать на мир из глубины ведра.
Оставим счёты. Вероятно, слабость.
Я, предвкушая ваш сарказм и радость,
в своей глуши благословляю разность:
жужжанье ослепительной осы
в простой ромашке вызывает робость.
Я сознаю, что предо мною пропасть.
И крутится сознание, как лопасть
вокруг своей негнущейся оси.
Сапожник строит сапоги. Пирожник
сооружает крендель. Чернокнижник
листает толстый фолиант. А грешник
усугубляет, что ни день, грехи.
Влекут дельфины по волнам треножник,
и Аполлон обозревает ближних –
в конечном счёте, безгранично внешних.
Шумят леса, и небеса глухи.
Уж скоро осень. Школьные тетради
лежат в портфелях. Чаровницы, вроде
вас, по утрам укладывают пряди
в большой пучок, готовясь к холодам.
Я вспоминаю эпизод в Тавриде,
наш обоюдный интерес к природе,
всегда в её дикорастущем виде,
и удивляюсь. И – грущу, мадам.
От окраины к центру
Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских,
рай речных пароходов,
и опять прошептал:
«Вот я снова в младенческих ларах».
Вот я вновь пробежал
Малой Охтой вдоль тысячи арок.
И кирпичных оград
просветлела внезапно угрюмость.
Добрый вечер и день,
моя бедная юность!
Не душа и не плоть –
чья-то тень над родным патефоном,
словно платье твоё
вдруг подброшено вверх саксофоном.
В ярко-красном кашне
и в плаще у закрытых парадных
ты стоишь на посту
возле лет безвозвратных.
До чего ж ты бледна. Столько лет,
а не можем расстаться.
Добрый день, моя юность,
как легко нам встречаться!
Возвышаю свой крик,
чтобы с ним в темноте не столкнуться:
это наша зима,
мы не можем обратно вернуться.
Слышим – где-то зовут.
Кто-то рядом, но где – не находим.
От рожденья на свет
ежедневно куда-то уходим.
Словно кто-то вдали
в новостройках прекрасно играет.
Разбегаемся все.
Только смерть нас одна собирает.
Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи.
И, полны темноты,
да, полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим
над холодной блестящей рекою.
Как легко нам теперь
оттого, что подобно растенью,
в чьей-то жизни чужой
мы становимся светом и тенью.
Даже больше того –
от того, что мы всё потеряем,
отбегая навек,
мы становимся светом и раем.
И от райских огней
мы уносим в глазах по цветочку.
Кто-то вечно идёт
мимо новых домов в одиночку.
Неужели не я,
освещённый тремя фонарями,
столько лет в темноте
по осколкам бежал пустырями,
ничего не узнал,
обознался, забыл, обманулся?
Значит, просто зима.
Значит, я никуда не вернулся.
Остаётся одно:
по земле проходить бестревожно.
Невозможно отстать.
Обгонять – только это возможно.
Я – наверх или вниз,
или вечно по самому краю.
Ничего не узнать.
Я стою, тороплюсь, обгоняю.
Только раз оглянусь,
но, уже этот дом запирая,
на звенящую грусть
от собачьего лая.
Слышу медленный звук.
Я зову, я спешу, я стараюсь.
Всё темнее вокруг –
значит, я возвращаюсь.
Памяти поэта. Вариант
В Петербурге мы сойдёмся снова...
Осип Мандельштам
Вернулся ль ты в воспетую подробно
Юдоль, чья геометрия продрогла, –
В план города, в скелет его, под рёбра,
Где, снегом выколов Адмиралтейства вид
Из глаз, мощь выключаемого света
Выводит тень из ледяного спектра
И в том краю Измайловского смертно
Многоколёсный ржавый хор трубит.
Опять трамвай врывается как эхо
В грязь мостовой, в слезящееся веко,
И холод девятнадцатого века
Царит в вокзалах. Тусклое рядно
Десятилетий пеленает кровли.
Опять ширь жестов, родственная кроне.
На свете всё восстановимо, кроме
Простого тела, видимо. Оно
Уходит в зимнем сумраке незримо
В зарю глухую Северного Рима,
Шаг приспособив к перебоям ритма
Пурги, в пространство тайное, в тот круг,
Где зов волчицы переходит в общий
Конвойный вой умалишённых волчий,
В былую притчу во языцех – в отчий
Заочный и дослёзный Петербург.
Не воскресить гармонии и дара,
Поленьев треска, тёплого угара
В том очаге, что время разжигало.
Но есть очаг вневременный, и та
Есть оптика, что преломляет судьбы
До совпаденья слова или сути,
До вечных форм, повторенных в сосуде,
На общие рассчитанном уста.
Взамен необретаемого Рая,
Из пенных волн что остров выпирая,
Не отраженье жизни, но вторая
Жизнь восстаёт из устной скорлупы.
И в свалке туч над мачтою ковчега
Ширяет голубь в поисках ночлега,
Не отличая обжитого брега
От Арарата. Голуби слепы.
Оставь же землю. Время плыть без курса.
Крошится камень, ложь бормочет тускло.
Но, как свидетель выживший, искусство
Буравит взглядом снега круговерть.
Бредут в моря на ощупь устья снова.
Взрывает злак мощь ледяного крова.
И лёгкое бессмысленное слово
Звучит вдали отчётливей, чем смерть.
Песня пустой веранды
Not with a bang but a whimper.
T.S. Eliot
Март на исходе, и сад мой пуст.
Старая птица, сядь на куст,
у которого в этот день
только и есть, что тень.
Будто и не было тех шести
лет, когда он любил цвести;
то есть грядущее тем, что наг,
делает ясный знак.
Или, былому в противовес,
гол до земли, но и чужд небес,
он, чьи ветви на этот раз –
лишь достиженье глаз.
Знаю и сам я не хуже всех:
грех осуждать нищету. Но грех
так обнажать – поперёк и вдоль –
язвы, чтоб вызвать боль.
Я бы и сам его проклял, но
где-то птице пора давно
сесть, чтоб не смешить ворон;
пусть это будет он.
Старая птица и голый куст,
соприкасаясь, рождают хруст,
и, если это принять всерьёз,
это – апофеоз.
То, что цвело и любило петь,
стало тем, что нельзя терпеть
без состраданья – не к их судьбе,
но к самому себе.
Грустно смотреть, как, сыграв отбой,
то, что было самой судьбой
призвано скрасить последний час,
меняется раньше нас.
То есть предметы и свойства их
одушевленнее нас самих.
Всюду сквозит одержимость тел
манией личных дел.
В силу того, что конец страшит,
каждая вещь на земле спешит
больше вкусить от своих ковриг,
чем позволяет миг.
Свет – ослепляет. И слово – лжёт.
Страсть утомляет. А горе – жжёт,
ибо страданье – примат огня
над единицей дня.
Лучше не верить своим глазам,
да и устам, оттого что Сам
Бог, предваряя Свой Страшный Суд,
жаждет казнить нас тут.
Так и рождается тот устав,
что позволяет, предметам дав
распоряжаться своей судьбой,
их заменять собой.
Старая птица, покинь свой куст.
Стану отныне посредством уст
петь за тебя, а за куст цвести
буду за счёт горсти.
Так изменились твои черты,
что будто на воду села ты,
лапки твои на вид мертвей
цепких нагих ветвей.
Можешь спокойно лететь во тьму.
Встану и место твоё займу.
Этот поступок осудит тот,
кто не встречал пустот.
Ибо, чужда четырём стенам,
жизнь, отступая, бросает нам
полые формы, и нас язвит
их нестерпимый вид.
Знаю, что голос мой во сто раз
хуже, чем твой, – пусть и низкий глас.
Но даже режущий ухо звук
лучше безмолвных мук.
Мир если гибнет, то гибнет без
грома и лязга; но также не с
робкой, прощающей грех слепой
веры в него, мольбой.
В пляске огня, под напором льда
подлинный мира конец – когда
песня, которая всем горчит,
выше нотой звучит.
Письма римскому другу
(Из Марциала)
*
Нынче ветрено, и волны с перехлёстом.
Скоро осень, всё изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги.
Дева тешит до известного предела –
дальше локтя не пойдёшь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела:
ни объятье невозможно, ни измена!
*
Посылаю тебе, Постум, эти книги
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жёстко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Всё интриги?
Всё интриги, вероятно, да обжорство.
Я сижу в своём саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных –
лишь согласное гуденье насекомых.
*
Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он – деловит, но незаметен.
Умер быстро: лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.
Рядом с ним – легионер, под грубым кварцем.
Он в сражениях Империю прославил.
Столько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.
*
Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
И от Цезаря далёко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники – ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.
*
Этот ливень переждать с тобой, гетера,
я согласен, но давай-ка без торговли:
брать сестерций с покрывающего тела –
всё равно, что дранку требовать у кровли.
Протекаю, говоришь? Но где же лужа?
Чтобы лужу оставлял я, не бывало.
Вот найдёшь себе какого-нибудь мужа,
он и будет протекать на покрывало.
*
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.
Разыщу большой кувшин, воды налью им...
Как там в Ливии, мой Постум, – или где там?
Неужели до сих пор ещё воюем?
*
Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
Худощавая, но с полными ногами.
Ты с ней спал ещё... Недавно стала жрица.
Жрица, Постум, и общается с богами.
Приезжай, попьём вина, закусим хлебом.
Или сливами. Расскажешь мне известья.
Постелю тебе в саду под чистым небом
и скажу, как называются созвездья.
*
Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит.
Забери из-под подушки сбереженья,
там немного, но на похороны хватит.
Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали цену.
*
Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце.
Стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.
Понт шумит за чёрной изгородью пиний.
Чьё-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
Похоронный блюз
Stop all the clocks, cut off the telephone
Wystan Hugh Auden «Funeral blues»
Часы останови, забудь про телефон
И бобику дай кость, чтобы не тявкал он.
Накрой чехлом рояль; под барабана дробь
И всхлипыванья пусть теперь выносят гроб.
Пускай аэроплан, свой объясняя вой,
Начертит в небесах «Он мёртв» над головой,
И лебедь в бабочку из крепа спрячет грусть,
Регулировщики – в перчатках чёрных пусть.
Он был мой Север, Юг, мой Запад, мой Восток,
Мой шестидневный труд, мой выходной восторг,
Слова и их мотив, местоимений сплав.
Любви, считал я, нет конца. Я был не прав.
Созвездья погаси и больше не смотри
Вверх. Упакуй луну и солнце разбери,
Слей в чашку океан, лес чисто подмети.
Отныне ничего в них больше не найти.
Похороны Бобо
1.
Бобо мертва, но шапки не долой.
Чем объяснить, что утешаться нечем?
Мы не проколем бабочку иглой
Адмиралтейства – только изувечим.
Квадраты окон, сколько ни смотри
по сторонам. И в качестве ответа
на «Что стряслось» пустую изнутри
открой жестянку: «Видимо, вот это».
Бобо мертва. Кончается среда.
На улицах, где не найдёшь ночлега,
белым-бело. Лишь чёрная вода
ночной реки не принимает снега.
2.
Бобо мертва, и в этой строчке грусть.
Квадраты окон, арок полукружья.
Такой мороз, что коль убьют, то пусть
из огнестрельного оружья.
Прощай, Бобо, прекрасная Бобо.
Слеза к лицу разрезанному сыру.
Нам за тобой последовать слабо,
но и стоять на месте не под силу.
Твой образ будет, знаю наперёд,
в жару и при морозе-ломоносе
не уменьшаться, но наоборот –
в неповторимой перспективе Росси.
3.
Бобо мертва. Вот чувство, дележу
доступное, но скользкое, как мыло.
Сегодня мне приснилось, что лежу
в своей кровати. Так оно и было.
Сорви листок, но дату переправь:
нуль открывает перечень утратам.
Сны без Бобо напоминают явь,
и воздух входит в комнату квадратом.
Бобо мертва. И хочется, уста
слегка разжав, произнести «не надо».
Наверно, после смерти – пустота.
И, вероятно, это хуже ада.
4.
Ты всем была. Но, потому что ты
теперь мертва, Бобо моя, ты стала
ничем – точнее, сгустком пустоты.
Что тоже, как подумаешь, немало.
Бобо мертва. На круглые глаза
вид горизонта действует как нож, но
тебя, Бобо, Кики или Заза
им не заменят. Это невозможно.
Идёт четверг. Я верю в пустоту.
В ней как в аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.
Прилив
I
В северной части мира я отыскал приют,
в ветреной части, где птицы, слетев со скал,
отражаются в рыбах и, падая вниз, клюют
с криком поверхность рябых зеркал.
Здесь не прийти в себя, хоть запрись на ключ.
В доме – шаром покати, и в станке – кондей.
Окно с утра занавешено рванью туч.
Мало земли, и не видать людей.
В этих широтах панует вода. Никто
пальцем не ткнёт в пространство, чтоб крикнуть: «вон!»
Горизонт себя выворачивает, как пальто,
наизнанку с помощью рыхлых волн.
И себя отличить не в силах от снятых брюк,
от висящей фуфайки – знать, чувств в обрез
либо лампа темнит – трогаешь ихний крюк,
чтобы, руку отдёрнув, сказать: «воскрес».
II
В северной части мира я отыскал приют,
между сырым аквилоном и кирпичом,
здесь, где подковы волн, пока их куют,
обрастают гривой и ни на чём
не задерживаются, точно мозг, топя
в завитках перманента набрякший перл.
Тот, кто привёл их в движение, на себя
приучить их оглядываться не успел!
Здесь кривится губа, и не стоит базлать
про квадратные вещи, ни про свои черты,
потому что прибой неизбежнее, чем базальт,
чем прилипший к нему человек, чем ты.
И холодный порыв затолкает обратно в пасть
лай собаки – не то что твои слова.
При отсутствии эха вещь, чтоб её украсть,
увеличить приходится раза в два.
III
В ветреной части мира я отыскал приют.
Для неё я – присохший ком, но она мне – щит.
Здесь меня найдут, если за мной придут,
потому что плотная ткань завсегда морщит
в этих широтах цвета дурных дрожжей;
карту избавив от пограничных дрязг,
точно скатерть, составленная из толчеи ножей,
расстилается, издавая лязг.
И, один приглашённый на этот бескрайний пир,
я о нём отзовусь, кости не в пример, тепло.
Потому что, как ни считай, я из чаши пил
больше, чем по лицу текло.
Нелюдей от живых хорошо отличать в длину.
Но покуда Борей забираться в скулу горазд
и пока толковище в разгаре, пока волну
давит волна, никто тебя не продаст.
IV
В северной части мира я водрузил кирпич!
Знай, что душа со временем пополам
может всё повторить, как попугай, опричь
непрерывности, свойственной местным сырым делам!
Так, кромсая отрез, кравчик кричит: «сукно!»
Можно выдернуть нитку, но не найдёшь иглы.
Плюс пустые дома стоят как давным-давно
отвёрнутые на бану углы.
В ветреной части мира я отыскал приют.
Здесь никто не крикнет, что ты чужой,
убирайся назад, и за постой берут
выцветаньем зрачка, ржавою чешуёй.
И фонарь на молу всю ночь дребезжит стеклом,
как монах либо мусор, обутый в жесть.
И громоздкая письменность с рёвом идёт на слом,
никому не давая себя прочесть.
V
Повернись к стене и промолви: «я сплю, я сплю».
Одеяло серого цвета, и сам ты стар.
Может, за ночь под веком я столько снов накоплю,
что наутро море крикнет мне: «наверстал!»
Всё равно, на какую букву себя послать,
человека всегда настигает его же храп,
и, в исподнем запутавшись, где ералаш, где гладь,
шевелясь, разбираешь, как донный краб.
Вот про что напевал, пряча плавник, лихой
небожитель, прощённого в профиль бледней греха,
заливая глаза на камнях ледяной ухой,
чтобы ты навострился слагать из костей И. Х.
Так впадает – куда, стыдно сказать – клешня.
Так следы оставляет в туче кто в ней парил.
Так белеет ступня. Так ступени кладут плашмя,
чтоб по волнам ступать, не держась перил.
1981
Пятая годовщина (4 июля 1977)
Падучая звезда, тем паче – астероид
на резкость без труда твой праздный взгляд настроит.
Взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит.
*
Там хмурые леса стоят в своей рванине.
Уйдя из точки «А», там поезд на равнине
стремится в точку «Б». Которой нет в помине.
Начала и концы там жизнь от взора прячет.
Покойник там незрим, как тот, кто только зачат.
Иначе – среди птиц. Но птицы мало значат.
Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью.
Пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью.
Оцепеневший дуб кивает лукоморью.
*
Там лужа во дворе, как площадь двух Америк.
Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик.
Неугомонный Терек там ищет третий берег.
Там дедушку в упор рассматривает внучек.
И к звёздам до сих пор там запускают жучек
плюс офицеров, чьих не осознать получек.
Там зелень щавеля смущает зелень лука.
Жужжание пчелы там главный принцип звука.
Там копия, щадя оригинал, безрука.
*
Зимой в пустых садах трубят гипербореи,
и рёбер больше там у пыльной батареи
в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее
нащупывает их рукой замёрзшей странник.
Там, наливая чай, ломают зуб о пряник.
Там мучает охранник во сне штыка трёхгранник.
От дождевой струи там плохо спичке серной.
Там говорят «свои» в дверях с усмешкой скверной.
У рыбной чешуи в воде там цвет консервный.
*
Там при словах «я за» течёт со щёк извёстка.
Там в церкви образа коптит свеча из воска.
Порой даёт раза соседним странам войско.
Там пышная сирень бушует в палисаде.
Пивная цельный день лежит в глухой осаде.
Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади.
Там в воздухе висят обрывки старых арий.
Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий.
В лесах полно куниц и прочих ценных тварей.
*
Там, лёжучи плашмя на рядовой холстине,
отбрасываешь тень, как пальма в Палестине.
Особенно – во сне. И, на манер пустыни,
там сахарный песок пересекаем мухой.
Там города стоят, как двинутые рюхой,
и карта мира там замещена пеструхой,
мычащей на бугре. Там схож закат с порезом.
Там вдалеке завод дымит, гремит железом,
не нужным никому: ни пьяным, ни тверезым.
*
Там слышен крик совы, ей отвечает филин.
Овацию листвы унять там вождь бессилен.
Простую мысль, увы, пугает вид извилин.
Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот,
но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запорот.
Других примет там нет – загадок, тайн, диковин.
Пейзаж лишён примет и горизонт неровен.
Там в моде серый цвет – цвет времени и брёвен.
*
Я вырос в тех краях. Я говорил «закурим»
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.
Привык к свинцу небес и к айвазовским бурям.
Там, думал, и умру – от скуки, от испуга.
Когда не от руки, так на руках у друга.
Видать, не рассчитал. Как квадратуру круга.
Видать, не рассчитал. Зане в театре задник
важнее, чем актёр. Простор важней, чем всадник.
Передних ног простор не отличит от задних.
*
Теперь меня там нет. Означенной пропаже
дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.
Отсутствие моё большой дыры в пейзаже
не сделало; пустяк: дыра, – но небольшая.
Её затянут мох или пучки лишая,
гармонии тонов и проч. не нарушая.
Теперь меня там нет. Об этом думать странно.
Но было бы чудней изображать барана,
дрожать, но раздражать на склоне дней тирана,
*
паясничать. Ну что ж! на всё свои законы:
я не любил жлобства, не целовал иконы,
и на одном мосту чугунный лик Горгоны
казался в тех краях мне самым честным ликом.
Зато столкнувшись с ним теперь, в его великом
варьянте, я своим не подавился криком
и не окаменел. Я слышу Музы лепет.
Я чувствую нутром, как Парка нитку треплет:
мой углекислый вздох пока что в вышних терпят,
*
и без костей язык, до внятных звуков лаком,
судьбу благодарит кириллицыным знаком.
На то она судьба, чтоб понимать на всяком
наречье. Предо мной – пространство в чистом виде.
В нём места нет столпу, фонтану, пирамиде.
В нём, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде.
Скрипи, моё перо, мой коготок, мой посох.
Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,
эпоха на колёсах нас не догонит, босых.
*
Мне нечего сказать ни греку, ни варягу,
зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.
Рождественская звезда
В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.
Ему всё казалось огромным: грудь матери, жёлтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь едкие облака,
на лежащего в яслях ребёнка издалека,
из глубины Вселенной, с другого её конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.
Рождественский романс
Евгению Рейну, с любовью
Плывёт в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу жёлтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывёт в тоске необьяснимой
пчелиный ход сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
Плывёт в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывёт в тоске необъяснимой.
Плывёт во мгле замоскворецкой,
плывёт в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на жёлтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывёт красотка записная,
своей тоски не объясняя.
Плывёт в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льётся мёд огней вечерних
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несёт сочельник
над головою.
Твой Новый год по тёмно-синей
волне средь моря городского
плывёт в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнётся снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнётся вправо,
качнувшись влево.
* * *
Север крошит металл, но щадит стекло.
Учит гортань говорить «пусти».
Холод меня воспитал и вложил перо
в пальцы, чтоб их согревать в горсти.
Замерзая, я вижу, как за моря
солнце садится и никого кругом.
То ли по льду каблук скользит, то ли сама земля
закругляется под каблуком.
И в гортани моей, где положен смех
или речь, или горячий чай,
всё отчётливей раздаётся снег
и чернеет, что твой Седов, «прощай».
Стансы
Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад тёмно-синий
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.
И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнёт над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
– До свиданья, дружок.
И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой.
Словно девочки-сёстры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.
Строфы
I
На прощанье – ни звука.
Граммофон за стеной.
В этом мире разлука –
лишь прообраз иной.
Ибо врозь, а не подле
мало веки смежать
вплоть до смерти: и после
нам не вместе лежать.
II
Кто бы ни был виновен,
но, идя на правёж,
воздаяния вровень
с невиновным не ждёшь.
Тем верней расстаёмся,
что имеем в виду,
что в раю не сойдёмся,
не столкнёмся в аду.
III
Как подзол раздирает
бороздою соха,
правота разделяет
беспощадней греха.
Не вина, но оплошность
разбивает стекло.
Что скорбеть, расколовшись,
что вино утекло?
IV
Чем тесней единенье,
тем кромешней разрыв.
Не спасут затемненья
ни рапид, ни наплыв.
В нашей твёрдости толка
больше нету. В чести –
одарённость осколка
жизнь сосуда вести.
V
Наполняйся же хмелем,
осушайся до дна.
Только ёмкость поделим,
но не крепость вина.
Да и я не загублен,
даже ежели впредь,
кроме сходства зазубрин,
общих черт не узреть.
VI
Нет деленья на чуждых.
Есть граница стыда
в виде разницы в чувствах
при словце «никогда».
Так скорбим, но хороним,
переходим к делам,
чтобы смерть, как синоним,
разделить пополам.
VII
Невозможность свиданья
превращает страну
в вариант мирозданья,
хоть она в ширину,
завидущая к славе,
не уступит любой
залетейской державе:
превзойдёт голытьбой.
VIII
Что ж без пользы неволишь
уничтожить следы?
Эти строки всего лишь
подголосок беды.
Обрастание сплетней
подтверждает к тому ж:
расставанье заметней,
чем слияние душ.
IХ
И, чтоб гончим не выдал –
ни моим, ни твоим –
адрес мой – храпоидол
или твой – херувим,
на прощанье – ни звука;
только хор Аонид.
Так посмертная мука
и при жизни саднит.
Шпион
С глухим гуденьем первая волна
уже проходит за его спиною
над городом, который навсегда
покинул на рассвете он в казённом
рыдване, всеми шинами его
лобзая мокрый от дождя булыжник;
и скрип часов на ратуше у врат
Сент-Безила, ронявший наземь время,
исторг слезу. В их глуховатом гуле
ему в тот миг почудились гудки
и лязг бегущих по равнинам мира
составов, пароходные сирены,
гром цепи выбираемой – вся эта
сжимающая внутренности гамма
отбытия, прощанья... Но сейчас,
здесь, в этой роще, в месте рандеву,
мундир навечно зарывая в листья
акации, застёгивая свой
жилет крестьянский, он спокоен.
Небо
над рощей набухает мерным гулом
бомбардировки, самолёты строем
плывут сквозь тучи, городок трясётся
от взрывов, вспышек; и огонь в одном
из окон ратуши гласит, что садик
с фонтанами, где он по вечерам
тянул коньяк и созерцал толпу,
засыпан щебнем и стволы пылают.
Но он – он смотрит именно туда.
В его глазах не столько жалость, сколько
внезапная растерянность, которой
он вовсе не испытывал, когда
он прибывал сюда, когда над полем,
как одуванчик лёгкий, парашют,
качаясь, плыл к мерцавшему украдкой
фонарику, и залитое лунным
сияньем поле шло ему навстречу.
Тогда, ночуя в погребе, среди
каких-то бочек, вёдер, он не пёкся
о деле, не страшился, что погрешность
в его бумагах иль в одежде вдруг
предаст его, но наслаждался, лёжа,
сырым дыханием корней, земли
и древности; а утром, прячась в сене,
он на возу внимал бренчанью сбруи
и скрежету ободьев, а потом –
потом тот поезд! Все купе битком
забиты возвращающимся с празднеств
весёлым людом, говорящим о
прыжках через костёр, венках смолы
и танцах. Словно знающий на память
все каталоги коллекционер,
найдя на чердаке иль в пыльной лавке
кулон от Фаберже или тет-беш
с Мартиники, он с жадностью вбирал,
оценивая точно, блеск их полу-
восточных глаз, заглатыванье гласных,
оборки, складки, запах брюк и кожи,
телепатические пожиманья
плечами, заменявшие им речи.
Укачиваем поездом, согретый
телами, смехом, местной акватинтой,
он ощущал, как подлинные жесты
овладевают пальцами: он впредь
из правой в левую не перекинет вилку,
крестясь, не станет уж креститься справа
налево. Возмужавший не в культуре,
но в ветреных краях, не тяготясь
поэтому привычками, легко
усвоит он все племенные нравы
и ритуалы их страны, к столице
которой он в то утро подъезжал,
чтоб вызнать и предать.
Но рваный рокот,
как хриплый кашель в горле василиска,
прокатывается над пограничным полем:
громады танков раздвигают рожь,
за ними – цепью – тёмная пехота.
И, узнавая тусклый цвет их глаз
и поступь тел, тяжёлых от домашней
мучной еды, он вспоминает свой
дом, сад, площадку с гравием и посвист
ночного ветра. Скверно быть изъятым,
он думает, из собственной судьбы,
из недр patria, и оказаться
чужим для всех подкидышем. И тут
он вздрагивает от неуютной мысли:
что, если по ошибке иль случайно
солдатам неизвестно ни о нём,
ни о его заданье? Как солдаты
его воспримут – нервный человек,
в крестьянском платье, говорящий с местным
акцентом, неспособный вспомнить улиц
родного городка? Поставив к стенке,
не будут ли они в итоге правы?
Он прижимается к стволу и ждёт.
Элегия Н.Н.
Неужели тебе это кажется столь далёким?
Стоит лишь пробежать по мелким Балтийским волнам
И за Датской равниной, за буковым лесом
Повернуть к океану, а там уже, в двух шагах,
Лабрадор – белый, об эту пору года.
И если уж тебе, о безлюдном мечтавшей мысе,
Так страшны города и скрежет на автострадах,
То нашлась бы тропа – через лесную глушь,
По-над синью талых озёр со следами дичи,
Прямо к брошенным золотым рудникам у подножья Сьерры.
Дальше – вниз по течению Сакраменто,
Меж холмов, поросших колючим дубом,
После – бор эвкалиптовый, за которым
Ты и встретишь меня.
Знаешь часто, когда цветёт манцанита
И залив голубеет весенним утром,
Вспоминаю невольно о доме в краю озёрном,
О сетях, что сохнут под низким литовским небом.
Та купальня, где ты снимала юбку,
Затвердела в чистый кристалл навеки.
Тьма сгустилась мёдом вокруг веранды.
Совы машут крылами, и пахнет кожей.
Как сумели мы выжить, не понимаю.
Стили, строи клубятся бесцветной массой,
Превращаясь в окаменелость.
Где ж тут в собственной разобраться сути.
Уходящее время смолит гнедую
Лошадь, и местечковую колоннаду
Рынка, и парик мадам Флигельтауб.
Знаешь сама, мы многому научились.
Как отнимается постепенно то,
Что не может быть отнято: люди, местность,
И как сердце бьётся тогда, когда надо бы разорваться.
Улыбаемся; чай на столе, буханка.
Лишь сомнение порою мелькнёт, что мог бы
Прах печей в Заксенхаузене быть нам чуть-чуть дороже.
Впрочем, тело не может влюбиться в пепел.
Ты привыкла к новым, дождливым зимам,
К стенам дома, с которых навеки смыта
Кровь хозяина-немца. А я – я тоже
Взял от жизни, что мог: города и страны.
В то же озеро дважды уже не ступишь;
Только солнечный луч по листве ольховой,
Дно устлавшей ему, преломляясь, бродит.
Нет, не затем это, что далеко,
Ты ко мне не явилась ни днём, ни ночью.
Год от года, делаясь всё огромней,
Созревает в нас общий плод: безучастность.
* * *
Это – ряд наблюдений. В углу – тепло.
Взгляд оставляет на вещи след.
Вода представляет собой стекло.
Человек страшней, чем его скелет.
Зимний вечер с вином нигде.
Веранда под натиском ивняка.
Тело покоится на локте,
как морена вне ледника.
Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекут с проступившим сквозь бахрому
оттиском «доброй ночи» уст,
не имевших, сказать кому.
* * *
Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздём в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал чёрт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя, что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал чёрным толем гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны воронёный зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешёл на шёпот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
* * *
Я не то что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла всё это –
города, человеков, но для начала зелень.
Стану спать не раздевшись или читать с любого
места чужую книгу, покамест остатки года,
как собака, сбежавшая от слепого,
переходят в положенном месте асфальт. Свобода –
это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираза,
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.
* * *
Я памятник воздвиг себе иной!
К постыдному столетию – спиной.
К любви своей потерянной – лицом.
И грудь – велосипедным колесом.
А ягодицы – к морю полуправд.
Какой ни окружай меня ландшафт,
чего бы ни пришлось мне извинять, –
я облик свой не стану изменять.
Мне высота и поза та мила.
Меня туда усталость вознесла.
Ты, Муза, не вини меня за то.
Рассудок мой теперь, как решето,
а не богами налитый сосуд.
Пускай меня низвергнут и снесут,
пускай в самоуправстве обвинят,
пускай меня разрушат, расчленят, –
в стране большой, на радость детворе
из гипсового бюста во дворе
сквозь белые незрячие глаза
струёй воды ударю в небеса.