Игра, игры, игре, с игрою, об игре…
Игра в слова − нелёгкая игра.
Здесь правила таинственны и строги.
Лишь поначалу кажется, что строки
Соскальзывают с кончика пера.
Леонид Кисилёв
Я хочу заранее попросить у читателей извинения. Дело в том, что несерьёзной темой игры я когда-то занимался более чем серьёзно, составляя и редактируя сборник статей об игре в педагогике. Я готов на эту тему прямо сейчас написать кучу умных фраз. А ещё у меня заготовлено множество цитат, и я пока не знаю, смогу ли удержаться от их использования. Пожалуй, нет, не смогу. Прямо с цитаты и начну!
«Что наша жизнь? Игра!» − поёт Германн в одной из самых знаменитых оперных арий. Но прав ли, делая подобное обобщение, этот заядлый игрок из «Пиковой дамы» Чайковского? Игра ведь, по широко распространённому мнению, дело несерьёзное, так себе – детская забава, пустячок. А как писал Евгений Евтушенко (и нет никаких оснований с ним не соглашаться), «вся наша жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк».
И всё же с Германном мы тоже спорить не готовы, интуитивно догадываясь, что есть в его словах некая глубинная правда.
Так что же такое игра? Различные авторы говорят о ней, как об отдыхе, забаве, шалости, развлечении, в крайнем случае – тренировке и форме обучения. Принято считать, что играют преимущественно дети, которые в игре выплёскивают избыток энергии и осваивают мир, взрослые же заняты важными делами, а если и они играют, то только чтобы отдохнуть и развлечься. Недаром же, когда мы хотим подчеркнуть несерьёзный характер каких-либо действий, то говорим: «Это всё детские игры».
Но как же тогда охарактеризовать то, чем занимаются актёры, музыканты, профессиональные спортсмены? Ведь их занятия мы тоже называем игрой, хотя для них это работа, за которую, вообще-то, платят деньги.
Да и в иных сферах человеческой деятельности, таких как война, отправление религиозных обрядов, судопроизводство, педагогика и многое другое, мы не можем не заметить признаки игры.
Каковы же эти признаки?
Голландский историк и философ Й. Хёйзинга в книге «Homo ludens» («Человек играющий») определяет игру как «добровольное поведение или занятие, которое происходит внутри некоторых установленных границ места и времени согласно добровольно взятым на себя, но безусловно обязательным правилам, с целью, заключающейся в самом этом занятии; сопровождаемое чувствами напряжения и радости, а также ощущением «инобытия» в сравнении с «обыденной жизнью».
 Современный британский психолог Сюзанна Миллер говорит об игре, как о парадоксальным поведении: «Исследования уже известного, тренировки в уже освоенном, дружеская агрессивность, секс без коитуса, волнение без повода, социальное поведение, не определённое специфической общей деятельностью или социальной структурой, притворство не ради обмана − всё это игра».
Современный британский психолог Сюзанна Миллер говорит об игре, как о парадоксальным поведении: «Исследования уже известного, тренировки в уже освоенном, дружеская агрессивность, секс без коитуса, волнение без повода, социальное поведение, не определённое специфической общей деятельностью или социальной структурой, притворство не ради обмана − всё это игра».
Совершенно очевидно, что играют не только люди, но и все высшие животные, которые не нуждаются в том, чтобы пришёл человек и научил их играм. Всё обучение звериных детёнышей навыкам, которыми они не наделены от рождения, происходит в игре. Играют и взрослые особи, забавляясь и получая от этого удовольствие. Таким образом, игру можно рассматривать не только как составную часть человеческой культуры, но и, в известной мере, её предтечу, из которой культура вылетает, как бабочка из кокона.
Мы уже говорили, что спортивные состязания, театральные представления или выступления музыкантов мы ассоциируем с понятием игры. В полной мере это можно распространить и на все иные виды художественной деятельности человека, в том числе – на поэзию.
 Пойдём по определению игры, данному Хёйзингой, и убедимся, что все его характеристики годятся и в разговоре о поэзии. Так же, как и любая другая игра, поэзия занятие добровольное, исключая, быть может, задания, выполняемые студентами литинститута. Утилитарной пользы от поэзии тоже нет, если, конечно, не рассматривать написанные в рифму рекламные слоганы или политические воззвания как произведения искусства. Творческий процесс, как и игра, доставляет поэту радость, даже если этот поэт графоман. Если же поэт настоящий, то радость он дарит и многочисленным читателям. При этом для кого-то стихотворчество забава, для других же подвиг самопознания. Но даже и забавляются стихами, следуя определённым, правилам, не менее жёстким, чем в хоккее или баскетболе с их судьями и расчерченными площадками. Достаточно вспомнить в этой связи такие устойчивые стихотворные формы, как персидские рубаи, японские хайку или романские сонеты. Однако даже в самых строгих поэтических формах автор сохраняет за собой творческую свободу. Вот эта-то свобода в первую очередь и роднит поэзию с игрой. То есть, с одной стороны, мы ценим в стихах соблюдение канонов, но с другой – именно игровое (и даже игривое) отклонение от них.
Пойдём по определению игры, данному Хёйзингой, и убедимся, что все его характеристики годятся и в разговоре о поэзии. Так же, как и любая другая игра, поэзия занятие добровольное, исключая, быть может, задания, выполняемые студентами литинститута. Утилитарной пользы от поэзии тоже нет, если, конечно, не рассматривать написанные в рифму рекламные слоганы или политические воззвания как произведения искусства. Творческий процесс, как и игра, доставляет поэту радость, даже если этот поэт графоман. Если же поэт настоящий, то радость он дарит и многочисленным читателям. При этом для кого-то стихотворчество забава, для других же подвиг самопознания. Но даже и забавляются стихами, следуя определённым, правилам, не менее жёстким, чем в хоккее или баскетболе с их судьями и расчерченными площадками. Достаточно вспомнить в этой связи такие устойчивые стихотворные формы, как персидские рубаи, японские хайку или романские сонеты. Однако даже в самых строгих поэтических формах автор сохраняет за собой творческую свободу. Вот эта-то свобода в первую очередь и роднит поэзию с игрой. То есть, с одной стороны, мы ценим в стихах соблюдение канонов, но с другой – именно игровое (и даже игривое) отклонение от них.
 Поэтическое произведение создаётся с помощью слов, но слова эти особенные, их практически невозможно заменить другими словами – иначе исчезнет чудо поэзии. Недаром Роберт Фрост заметил как-то, что «поэзия – это то, что умирает в переводе». Но следует отметить, что поэтические финты, дриблинг, прессинг, способность порхать, как бабочка, и жалить, как пчела, не остаются неизменными. Постоянно рождаются новые приёмы, призванные увлечь читателя, сделать его соучастником поэтической игры.
Поэтическое произведение создаётся с помощью слов, но слова эти особенные, их практически невозможно заменить другими словами – иначе исчезнет чудо поэзии. Недаром Роберт Фрост заметил как-то, что «поэзия – это то, что умирает в переводе». Но следует отметить, что поэтические финты, дриблинг, прессинг, способность порхать, как бабочка, и жалить, как пчела, не остаются неизменными. Постоянно рождаются новые приёмы, призванные увлечь читателя, сделать его соучастником поэтической игры.
Тема, которая меня, как учителя, особенно живо занимает, это педагогическая миссия поэзии, которую она осуществляет не с помощью лобовых инструкций и деклараций, но погружая читателя в свой особенный мир, волнуя, заставляя сопереживать автору и его героям, порождая очищающее душу состояние катарсиса. При этом поэт всего лишь играет с нами. Обливаясь слезами над поэтическим вымыслом, мы как реальную переживаем трагедию, которую он, быть может, придумал от начала до конца.
Позволю завершить это маленькое эссе стихотворением собственного сочинения, посвящённом обсуждаемой нами теме:
Игра
Здесь правила строги и неизменны,
но принимая их без дураков,
ликует дух, забыв о жизни тленной,
на миг освободившись от оков.
Грохочет век, жестокий и железный,
но понимая, что давно пора,
ликует дух, такой же бесполезный,
весёлый и беспечный, как игра.
Сражение, в котором мне не больно,
не страшно, – ну, а если – то чуть-чуть,
как воля, снизошедшая невольно,
и ликованья праздничная суть.
Ликует дух, играет и резвится,
и, как щенок, готов вилять хвостом.
Я научусь, мне это пригодится,
но это всё когда-нибудь потом.
Лоб расшибу, вновь наступив на грабли.
Да наплевать! Во сне и наяву
вся жизнь игра? Быть может или вряд ли.
Но я играю – значит, я живу!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
А теперь я передаю слово филологу и литературоведу Ирине Родиной. Она спасёт нашу статью, оживив мои теоретизирования конкретными литературными примерами. Так, совместными усилиями, мы, надеюсь, сумеем убедить вас в том, что любимая нами поэзия – это форма игры, в которую люди играют на протяжении всей своей истории.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
«Вы оцените красоту игры»
Если поэзия перестанет играть словами и образами, она просто прекратит своё существование.
«Поэзия − это функция игрового характера», − провозгласил нидерландский философ и культуролог Йохан Хёйзинга, посвятивший целый трактат феномену игры и его всеобъемлющей роли в жизни человеческой цивилизации. Его аргументация, охватывающая всю известную нам историю и географию поэтического искусства, заслуживает самого пристального внимания.
Но не менее интересно, что думают о природе своего ремесла сами «игроки» − то есть поэты. Их рефлексии на эту тему удивительным образом пересекаются, при всём различии творческих индивидуальностей и стилистических почерков. Мы присутствуем как бы при грандиозной перекличке, которую ведут через время и пространство стихотворцы разных эпох и стран.
«Поэзия − вся! − езда в незнаемое», − заявил воображаемому фининспектору Владимир Маяковский, утверждая тем самым высшую свободу и незапрограммированность поэтического творчества. И это невзирая на то, что ко времени написания этих строк он − «агитатор, горлан, главарь» − уже основательно, по его же словам, наступил на горло собственной песне, став заложником идеи.
И не поразительно ли, что через 60 лет та же самая мысль развернётся во всю мощь в Нобелевской речи Иосифа Бродского:
«Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлён тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал... Порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удаётся оказаться там, где до него никто не бывал, − и дальше, может быть, чем он сам бы желал. Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихотворение − колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом».
Те же самые непредсказуемость результата и разбожествление логики как единственно верного способа познания мира звучат в стихах Марины Цветаевой:
Поэт − издалека заводит речь.
Поэта − далеко заводит речь.
Планетами, приметами, окольных
Притч рытвинами… Между да и нет
Он даже размахнувшись с колокольни
Крюк выморочит… Ибо путь комет −
Поэтов путь. Развеянные звенья
Причинности – вот связь его! Кверх лбом −
Отчаетесь! Поэтовы затменья
Не предугаданы календарём.
«...Не размеряй пути, почти бесплотность предпочти всему, что слишком плоть и тело, − вторит своим незримым собеседникам французский символист Поль Верлен не без помощи русского переводчика Бориса Пастернака. − Не церемонься с языком и торной не ходи дорожкой. Всех лучше песни, где немножко и точность точно под хмельком».
Итак, неопределённость − это одна из существенных характеристик поэзии, как утверждают сами поэты. Но она же названа принципиальным критерием любой игры и в научной концепции Хёйзинги, изложенной в сочинении «Homo ludens». Культура рождается из игры с её неопределённостью и напряжением и несёт в себе эти свойства до тех пор, пока она жива. В поэзию, как фундаментальную часть культуры, игровой характер буквально «вшит» и является её генетическим кодом.
По ту сторону серьёзного
Поэзия отделена от так называемой «реальной жизни» и свойственного ей обыденного, утилитарного языка по той же причине: она играет словами и образами, а не описывает рутину повседневности и «объективный мир». Поэты создают иную реальность («другое небо и любовь», по выражению уже упомянутого Верлена), и в ней царствуют иные законы, чем в физической Вселенной.
«Поэзия вступает в игру в некоем поле духа, в некоем собственном мире, который дух творит для себя, где вещи имеют иное лицо, чем в «обычной жизни», и где их связывают между собой не логические, а иные связи, − утверждает Хёйзинга. − Если под серьёзным понимать то, что позволяет связно выразить словом бодрствующая жизнь, то поэзия никогда не бывает совершенно серьёзной. Она располагается по ту сторону серьёзного − в той первозданной стране, откуда родом дети, животные, дикари, ясновидцы, в царстве грёзы, восторга, опьянения, смеха. Для понимания поэзии нужно облечь себя душою ребёнка, словно волшебной сорочкой, и мудрость ребёнка поставить выше мудрости взрослого. Такова изначальная сущность поэзии, ближе всего стоящая к чистому понятию игры».
Цель поэзии − создать специфическими, только ей присущими средствами особое напряжение духовной жизни, которым «инфицируется» читатель. И эта цель неосуществима, если поэт сам не является носителем высокого напряжения, благородного безумия, продлённого во времени аффекта. Древний бард − всегда одержимый, воодушевлённый, неистовый. Именно поэтому он ясновидец и прорицатель, которому открыто будущее.
Современный поэт не может позволить себе такого прямолинейного впадения в безумие. Однако его внутренний психический рисунок несёт в себе эти родовые черты − отрешённость от обыденщины, «прозы» и интенсивное проживание параллельного существования в духовной реальности.
Вот как говорит об этом имманентном истинному поэту состоянии Цветаева:
«Проза − это то, что примелькалось. Мне ничто не примелькалось: Этна − потому что сродни, куры − потому что ненавижу, даже кастрюльки не примелькались, потому что их либо ненавижу, либо не вижу, я никогда не поверю в «прозу», её нет, я её ни разу в жизни не встречала, ни кончика хвоста её. Когда подо всем, за всем и надо всем: боги, беды, духи, судьбы, крылья, хвосты − какая тут может быть «проза». Когда всё на вертящемся шаре?! Внутри которого − огонь».
Кто кому подражает
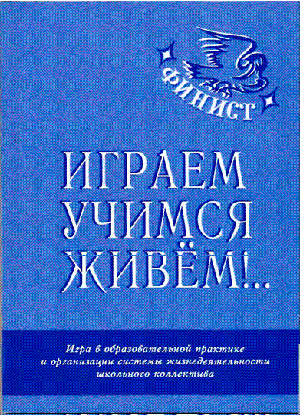 Как всякая игра, поэзия подчиняется своду строгих, охраняемых традицией, но добровольно принимаемых правил. Одновременно она даёт игрокам бесконечную степень свободы в их творческом применении. Это область абсолютного порядка, который не в тягость участникам, и зона полного бескорыстия, материальной незаинтересованности и отрицания каких бы то ни было дивидендов. Ведь знаменитое пушкинское «Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать» к самой поэтической игре никакого отношения не имеет.
Как всякая игра, поэзия подчиняется своду строгих, охраняемых традицией, но добровольно принимаемых правил. Одновременно она даёт игрокам бесконечную степень свободы в их творческом применении. Это область абсолютного порядка, который не в тягость участникам, и зона полного бескорыстия, материальной незаинтересованности и отрицания каких бы то ни было дивидендов. Ведь знаменитое пушкинское «Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать» к самой поэтической игре никакого отношения не имеет.
И снова послушаем главных «игроков» гроссмейстерского ранга, на этот раз − Оскара Уайльда, который в письме Эрнесту Бернульфу Клеггу недвусмысленно провозгласил:
«Если созерцание произведения искусства побуждает к какой-либо деятельности, это значит, что либо произведение весьма посредственно, либо созерцающий не сумел оценить его во всей художественной полноте. Произведение искусства бесполезно, как бесполезен цветок. Ведь цветок расцветает ради собственного удовольствия. Мы получаем удовольствие в тот миг, когда любуемся им. Вот и все, что можно сказать о нашем отношении к цветам. Конечно, человек может продать цветок и тем самым извлечь из него пользу для себя, но это не имеет ничего общего с цветком. Это не меняет его сущности. Это нечто случайное, безотносительное к нему».
К слову, юноша по фамилии Клегг был с Уайльдом незнаком − он просто написал письмо, в котором попросил автора разъяснить фразу из только что вышедшего романа «Портрет Дориана Грея» о том, что «всякое искусство бесполезно». И, к его удивлению, мэтр ему немедленно ответил. Попутно отметим, что в этом своём суждении эстет Уайльд оказался близок как идеалисту Канту, так и просветителю Дидро.
Поэт не только в своих стихах, но и в образе жизни, Уайльд заявлял, что искусство самоценно и развивается по своим внутренним законам. И по-настоящему огорчителен только «упадок лжи», то есть фантазии, творческого воображения − иными словами, недостаток игры. Пагубна тяга искусства к подражанию жизни. А между тем жизнь призвана «подражать» искусству, ибо только оно − образец непревзойдённого совершенства: «Научиться видеть красоту вещей − это предел того, чего мы способны достичь».
Свои литературно-эстетические приоритеты Уайльд реализовал в художественной практике. Свидетельство тому − его поэзия: отмеченный изяществом сборник «Стихотворения» (1892), а также сказки − поэтичные, лиричные, заключающие в себе притчевое начало («Соловей и роза», «Преданный друг», «День рождения инфанты»), новеллы («Кентервильское привидение», «Преступление лорда Артура Сэвила»).
Искусство, по Оскару Уайльду, − это полностью результат деятельности художника. Его образы реальнее живых людей. «Ему принадлежат великие прототипы, и только их незаконченными копиями являются существующие предметы. Мы не видим вещи, покуда не видим её красоты. Тогда, и только тогда, эта вещь начинает существовать. В настоящее время люди видят туманы не потому, что туманы существуют, но потому, что поэты и живописцы показали им таинственную прелесть подобных эффектов. В Лондоне туманы существуют не первое столетие; смею сказать, они были всегда. Но никто их не видел и потому мы ничего о них не знаем. Они не существовали, покуда искусство не изобразило их», − говорит героиня уайльдовского диалога «Упадок лжи».
Итак, не искусство подражает жизни, а напротив, жизнь − искусству. Тургенев создал нигилистов, картины Данте Габриэля Россетти − меланхолические, задумчивые лица лондонских девушек.
Письмо программисту Т.
Если принять за аксиому концепцию Уайльда, то игра, которой по своей природной сути является поэзия, вполне способна запрограммировать жизнь, а вовсе не наоборот. И в этой главке я попытаюсь показать, что скандальный тезис великого эстета − вовсе не столь фантастичное предположение, как может показаться на первый взгляд.
В качестве такой программирующей словесной игры я предлагаю рассмотреть поэзию Фёдора Тютчева − в её самых известных, прославленных образцах. И начать с прекрасных, хотя и навязших в зубах строк:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать −
В Россию можно только верить.
Уж сколько раз их перепевали на все лады с ноября 1866-го, когда они были написаны. Сколько перехватывающей горло иррациональной гордости и веры в особый путь было взлелеяно с их высокохудожественной помощью! Не зря, ох не зря государь-император Николай Палкин некогда поддержал все инициативы камергера, поэта-философа и бывшего дипломата Фёдора Тютчева по созданию позитивного образа России на Западе. Не столько делом, сколько словом.
Мы не такие, как вы, вам нас не понять − и тем лучше! По нагой и нищей русской земле ходит никем не узнанный голый и босый Христос, чудесным образом перенесясь на холодный север с тёплых берегов Иордана. Поэтому вся благодать − здесь:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа −
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.
 Сложные и постоянно меняющиеся отношения с Богом в XX столетии никак не повлияли на эту непрерывную традицию тонкого чванства и культивации собственной загадочности для всего мира. И только после крушения империи, когда начались массовые поиски заплутавшего рацио, строки об особенной стати, аршине и непостижимости умом стали откровенно раздражать публицистов новой волны. Желание влиться в семью народов и найти в себе признаки и родовые черты обычного человека временно возобладало в потерянных согражданах.
Сложные и постоянно меняющиеся отношения с Богом в XX столетии никак не повлияли на эту непрерывную традицию тонкого чванства и культивации собственной загадочности для всего мира. И только после крушения империи, когда начались массовые поиски заплутавшего рацио, строки об особенной стати, аршине и непостижимости умом стали откровенно раздражать публицистов новой волны. Желание влиться в семью народов и найти в себе признаки и родовые черты обычного человека временно возобладало в потерянных согражданах.
Но прав был поэт: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся». И вот Тютчев снова мобилизован и призван. И возвращение «лиц российской национальности» на свой особый путь в новом веке было обставлено с невиданным размахом и разухабистостью.
Жалкий отчаянный выкрик сатирика Губермана «Давно пора, @бёна мать, умом Россию понимать!» вослед нашему паровозу пропадает в стуке колёс и победном шипении пара.
«И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать». Ваше слово, Фёдор Иванович, не просто отзывается и встречает горячее сочувствие − оно буквально программирует реальность, и весьма жёстко. Вы демиург, вы сотворили магическими сочетаниями звуков те самые русские миры, в которых все мы заключены, как в волшебных шкатулках.
Помнится, на третьем курсе филфака я прочитала посвящение «Русской женщине» и была им совершенно зачарована. Завтра экзамен по отечественной литературе, половина списка, как всегда, не тронута. А мне хоть бы хны − хожу под наркотиком этой безнадёжности и нежности, проливая невидимую прозрачную слезу вместе с автором:
Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои...
И жизнь твоя пройдёт незрима
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, −
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле...
И что же? Должны были просвистеть года, проснуться Эйяфьядлайёкюдль и сдвинуться разные тектонические плиты, чтобы до меня наконец дошло − это не про какую-то там абстрактную русскую женщину вы изволили сочинить. Это я − от солнца и природы, от света и искусства, от жизни и любви вдали. Это вы меня заколдовали и заключили в такое вот бытие, про которое поэты пишут такие вот стихи. Вы виноваты со своим словом животворящим, чтоб его!
Фёдор Иванович, возьмите свои слова назад! Давайте закончим эту игру.
И родите нас, пожалуйста, обратно.
«Мы − честные работники своего искусства»
Поэзия вся − езда в незнаемое. И вся − игра ритмами, рифмами, тропами, образами. Каждый читатель стихотворного текста даёт молчаливое согласие на участие в этой игре и разгадывание бесчисленных загадок, в ней заключённых.
Но есть эпохи, направления и объединения поэтов, благодаря которым эта игра становится демонстративной, откровенной, прямодушной. Обычно это случается при сломе старой и возникновении новой эстетической парадигмы. И, как правило, ознаменовывается выходом какого-нибудь громкого манифеста.
Так произошло в 1928 году, когда в советской России была обнародована декларация новой литературной группы ОБЭРИУ − Объединения реального искусства. Обэриуты призывали к лингвистическому новаторству, свободе от стереотипов и называли себя творцами не только нового языка, но и нового ощущения жизни и её предметов.
«Мир, замусоренный языками множества глупцов, запутанный в тину «переживаний» и «эмоций», − ныне возрождается во всей чистоте своих конкретных мужественных форм! − говорилось в манифесте. − Люди реальные и конкретные до мозга костей, мы − первые враги тех, кто холостит слово и превращает его в бессильного и бессмысленного ублюдка. В своём творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства. В поэзии − столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с точностью механики».
Обэриуты, самыми известными из которых для читающей публики остаются по сей день Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий и Николай Олейников, выступали против пошлого копирования действительности. Предвосхищая на несколько десятилетий европейский театр абсурда, они щедро вводили в своё творчество гротеск и ломали привычные связи между вещами, утверждая, что житейская логика не годится для искусства: «Мы поражаемся красотой нарисованной женщины, несмотря на то что, вопреки анатомической логике, художник вывернул лопатку своей героини и отвёл её в сторону. У искусства своя логика, и она не разрушает предмет, но помогает его познать».
В начале творческого пути некоторые обэриуты испытывали влияние футуристов-«заумников», в особенности Велимира Хлебникова и Василия Каменского, но потом решительно от них отмежевались. Им оказалась ближе пародийная и ироническая поэзия Козьмы Пруткова и поэтов «Сатирикона».
Граница между шуточным и серьёзным в стихах обэриутов не всегда чётко различима − как, например, у Олейникова:
Кузнечик, мой верный товарищ,
Мой старый испытанный друг,
Зачем ты сидишь одиноко,
Глаза устремивши на юг?
Куда тебе в дальние страны,
Зачем тебе это тепло?
У нас и леса, и поляны,
А там всё песком замело.
Тема романтического уединения и тоски по дальним странам в сочетании с обращением к кузнечику с самого начала заставляет предположить пародию на романтическое произведение. Однако оказывается, что кузнечик изображён в совершенно несвойственном ему масштабе: он позволяет не только увидеть глаза героя, но и разглядеть их выражение. Кузнечик оказывается не совсем кузнечиком, а чуждая романтизму разговорная интонация и просторечие вносят в стихи подлинную, отнюдь не пародийную печаль.
В поэзии обэриутов предметы, люди и представители животного мира получают несвойственные им определения. Так, у Заболоцкого в поэме «Торжество земледелия» возникают совершенно нетрадиционные образы природы:
Тут природа вся валялась
В страшно диком беспорядке:
Кой-где дерево шаталось,
Там реки струилась прядка.
Тут стояли две-три хаты
Над безумным ручейком.
Идёт медведь продолговатый
Как-то поздно вечерком.
А над ним, на небе тихом,
Безобразный и большой,
Журавель летает с гиком,
Потрясая головой.
Увидеть пейзаж как неубранное, не приведённое в порядок помещение до Заболоцкого не приходило в голову никому. В нарушение поэтического канона, мир природы изображён как негармоничный, хаотический, что подчёркивается неожиданными эпитетами: «медведь продолговатый», «журавль безобразный и большой». Крик последнего уподобляется «гику», что тоже ранее не делал ни один из поэтов. Природа мифологизируется, наделяется антропоморфными чертами. Обновлённый словесной игрой мир предстаёт одухотворённым и исполненным трагизма.
В стихотворении обэриута Введенского «Пять или шесть» изменяются представления о времени, протяжённости в пространстве, количестве (кстати, текст написан без знаков препинания и начинается со строчной буквы):
жили были шесть людей
Фиогуров и Изотов
Горский Соня парень Влас
вот без горя без заботы
речка жизни их лилась
В заголовке сообщается о шести персонажах, но в тексте перечисляются скорее пять, чем шесть. Подобные сбои в изображении таких наглядных категорий, как пространство, время, количество, призваны указать на абсурдность существования вообще. В окружении столь очевидных неточностей, в зыбком и ненадёжном мире формула «вот без горя и заботы речка жизни их лилась» также приобретает оттенок сомнительности. Так возникает ироничность, пронизывающая творчество обэриутов.
Человек в обэриутской поэзии теряет свойство стабильности. Например, в стихотворении Олейникова «Перемена фамилии» герой, поменявший фамилию «Козлов» на «Орлов», страдая от раздвоения личности, кончает жизнь самоубийством, но и после смерти их двое:
Орлова не стало. Козлова не стало.
Друзья, помолитесь за нас!
О самых странных и трагических событиях в стихах обэриутов рассказывается в разговорном тоне, синтаксис их всегда прост, иногда до инфантильности. Лексика при этом может быть разнородна: обэриуты любят соединять несоединимые стилистические пласты. Канцелярские или наукообразные слова и обороты нередко включаются в повествование о самых личных и даже интимных событиях и чувствах. Это почти по-зощенковски поддерживает игру в «галантерейность» повествования, ведущегося якобы от лица советского обывателя:
Лиза! Деятель искусства!
Разрешите к вам припасть!
(Николай Олейников, «Послание артистке одного из театров»).
Герой обэриутов − маленький человек, Акакий Акакиевич советского времени, пытающийся сохранить в котле эпохи свои чувства и само существование, но с ужасом замечающий трагическую неприспособленность этого мира для жизни. В «Надклассовом послании Генриху Левину по поводу влюбления его в Шурочку Любарскую» Олейников увещевает друга:
Страшно жить на этом свете,
В нём отсутствует уют, −
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут,
Плачет маленький телёнок
Под кинжалом мясника,
Рыба бедная спросонок
Лезет в сети рыбака.
Всё погибнет, всё исчезнет
От бациллы до слона −
И любовь твоя, и песни,
И планеты, и луна.
Дико прыгает букашка
С бесконечной высоты,
Разбивает лоб бедняжка...
Разобьёшь его и ты!
Традиционные для поэзии темы полностью обновляются обэриутами. За буффонадой сквозит повествование о любви и смерти, о жалости и жестокости. И алогичность Хармса, и «бессмыслица» Введенского призваны продемонстрировать, что только абсурд адекватно передаёт бессвязность жизни в постоянно меняющемся пространстве и времени.
Особые линзы, фильтры и зеркала, применяемые этими молодыми поэтами, отрицали рутину и замыленное восприятие. Да, они были абсурдистами, но одновременно бесстрашными разведчиками реальности. Исследователями, проникающими в самое ядро истины, которая скрывается под многими личинами. Одна из них − внешнее правдоподобие, удобная, но поверхностная логичность событий и поступков, инерционность восприятия, пошлость расхожих истин.
Абсурд − такой же полноправный элемент реальности, как выдуманные нами правила, за которые мы держимся, как утопающий за спасительную соломинку. Искусственно отбраковать его, выбросить из художественной ткани, проигнорировать его наличие − это и есть смертный грех против реализма. И форма зеркал, в которые читатель смотрит, узнавая и не узнавая себя, может быть такой же диковинной и причудливой, как само человеческое бытие. Их особый фокус необходим, чтобы не уйти в своих фантазиях о «регулярности» и «периодичности» жизни слишком далеко от действительности.
Конец игры
Разумеется, складывавшаяся в стране обстановка не способствовала изданию экспериментальной поэзии и прозы обэриутов или постановке их драматических произведений. Единственная возможность публикации, которая у них оставалась, − это создание стихов для детей. Большинство обэриутов сотрудничали в журналах «Ёж» и «Чиж». Так появились весёлые и страшные, бойкие и серьёзные, интересные и загадочные детские стихи о самом важном: вкусной еде, больших числах, тайных играх, страшных снах. А ещё о котах и тиграх, Петях и Колях, рыбаках и рыбах, доме и дальнем пути.
Детям 30-х несказанно повезло в этом отношении, о чём как раз сейчас пишет ростовский прозаик Инна Калабухова в своей новой повести о чтении. Со страниц детских журналов стихия игры буквально хлынула в ребячью жизнь ярким, разноцветным и праздничным потоком.
Однако передовая советская критика, конечно, считала иначе. Детские произведения обэриутов регулярно получали ругательные рецензии − вроде этой, написанной на книгу Александра Введенского «Кто?»:
«Автор рассказывает «о подвигах» пятилетнего Пети, который устроил беспорядок в кабинете дяди Бори и тёти Вари. Дядя Боря и тётя Варя разыскивают виновников среди домашних животных, но потом узнают настоящего виновника и в наказание рассказывают о его шалостях всему свету. Момент шалости ребёнка и наказания его автор проводит в форме индивидуального провинциального семейного быта, совершенно не используя момент коллективного воспитания, не демонстрируя воздействия детского коллектива на «неорганизованного» Петю. Рисунки книги, сделанные в форме силуэтов, не всегда удачны. Силуэты дяди и тёти сделаны грубо. Нечёток силуэт Пети. Книга неумная, неинтересная для советского ребёнка. Использована быть не может».
Такую же разгромную отповедь критика получило остроумное и познавательное стихотворение Даниила Хармса «Миллион», где он в ритме весёлой считалки легко и непринуждённо показывает, как можно получить это громадное число из сложения чисел поменьше: «Со стороны содержания стихи не представляют никакой ценности. Стихи написаны халтурно. Кроме того, оформление книги не поясняет текста. Пионерки идут беспорядочной толпой, напоминающей стадо. Такое изображение отряда художником неверно. Совершенно непонятно читателю, почему человек с красным флагом выбрасывается из аэроплана».
В декабре 1931-го были первый раз арестованы главные обэриуты − Хармс и Введенский. Последовавшая за арестами ссылка привела к фактическому распаду ОБЭРИУ. Судьба его участников закончилась трагично − для одних ГУЛАГом, для других − гибелью на войне, для Хармса − смертью на койке психиатрического отделения. Эта необыкновенная группа уникально талантливых людей с нежными душами и самобытным словом была стёрта с лица земли, будто бы её никогда и не было.
Уцелевший в страшной мясорубке эпохи Заболоцкий, вернувшись из лагеря, всю оставшуюся жизнь последовательно сжигал свои старые рукописи. А новые стихи писал совершенно в другом стиле и духе. Но в 1952-м всё-таки не удержался и написал «Прощание с друзьями»:
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.
Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где всё разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба − лишь могильный холм
И неподвижна лунная орбита.
Там на ином, невнятном языке
Поёт синклит беззвучных насекомых,
Там с маленьким фонариком в руке
Жук-человек приветствует знакомых.
Спокойно ль вам, товарищи мои?
Легко ли вам? И всё ли вы забыли?
Теперь вам братья − корни, муравьи,
Травинки, вздохи, столбики из пыли.
Теперь вам сёстры − цветики гвоздик,
Соски сирени, щепочки, цыплята...
И уж не в силах вспомнить ваш язык
Там наверху оставленного брата.
Ему ещё не место в тех краях,
Где вы исчезли, лёгкие, как тени,
В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадями своих стихотворений.
=========================================================
И вот ещё такой стихотворный довесочек:
Визажист
На щеке нарисую ромашку,
на другой − огурец и рюмашку,
а на третьей − но нету ея.
Глазки нет, понимаете ль, третьей,
чтобы в космос с макушки смотреть ей…
То бишь есть, но уже не моя.
Глазку третьей щеке пририсую,
пятой − ручку и ножку босую
и слезинку на щёчке шестой,
чтоб промыла непарные глазки.
Вы ж, покуда не кончились краски,
полюбуйтесь моей красотой.
Красота − низачем, не для дела, −
просто так, чтобы глазка блестела
и синела, и в небе плыла
лёгкой лодочкой, праздною тучкой
и махала нам ножкой и ручкой…
Вот такие, ребята, дела!