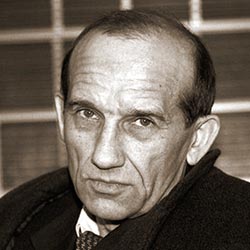Сюжет – это шомпол, или Вместо предисловия
– Игорь Иванович, есть ещё вопросы…
– Задавайте.
– «Золотая блесна». Такая удивительная проза, захватывающая, ни на что не похожая. Как? Откуда? Почему? Я даже не знаю с чем сравнить. Мои знакомые, которым я рекомендовал её прочитать, говорят: «Как быстро всё заканчивается. Хотелось бы продолжения».
– Так её надо перечитывать. Там же нет сюжета. И у них будет ощущение, будто читают в первый раз. Я абсолютно в этом уверен.
Что я могу сказать о «Золотой блесне»? Однажды Дмитрий Сергеевич Лихачёв мне сказал: «Игорь Иванович, напишите прозу. Вы просто обязаны это сделать». И вот тогда я задумался. Как это сказано у Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…».
Так вот «Золотая блесна» выросла из эссе. Я был членом редколлегии «Российской охотничьей газеты», и время от времени я в ней что-то печатал. В ней появилось моё эссе «Золотые круги на воде, или История нахлыста». Потом Алексей Алёхин, главный редактор журнала «Арион», замечательный человек, который самозабвенно служит поэзии, взял и перепечатал его у себя. Вскоре раздался телефонный звонок из Праги с радиостанции «Свобода». Звонил критик и поэт Игорь Померанцев. Он представился, и сказал, что прочёл моё эссе, а потом добавил: «Я вспомнил о существовании русской литературы». Мне было очень радостно и отрадно это слышать, за что я ему весьма признателен.
И вот мне захотелось продолжить это эссе, и я как-то не заметил, как оно переродилось в «Золотую блесну». Меня в ней увлекла возможность показать сонм почти неуловимых состояний человека, которые трудно, а часто и невозможно передать словами. Я испытывал чувство упования той своей жизнью на природе: хождение по лесу, добывание еды, ловля… Я собрал свои силы, силы радости и благодарности. Я хотел написать такую книгу, чтобы обрадовать читателя. Вообще радость написать труднее, чем трагедию. Любую трагедию, да ещё сюжетную, написать легко. Или ужасы. Они сами пишутся – ужасы. А описать радость очень трудно. Это удавалось немногим в мировой литературе. Пушкину – очень часто, Александру Дюма в «Трёх мушкетёрах», или в «Двадцати годах спустя», Марку Твену… Но таких книг, которыми можно упиваться, очень немного.
И вот тогда я сел за эту книгу. Однако я думаю, что «обычный» читатель многого в ней не заметит, но «тонкий» обязательно заметит. Вот, допустим, что пришло на ум (читает по памяти – В. Л.): «Вот я подхожу к реке и чувствую спазмы в горле. Вода на меня иногда так сильно действует, что случается отдышка. Шумит порог, возникает радостное возбуждение. На срезе дня я вижу годовые кольца, полный круг Земли, – так глубоко проникло в древесину вращение миров».
Это состояние мне было продиктовано свыше. И они возникали за минуту, за мгновение, прежде чем я хотел о них написать. Это совсем другая проза, и она написана по другим, если так можно сказать, законам литературных жанров. Она – не имеет жанра, и ей не нужен увлекательный сюжет.
Сюжет – это шомпол, это шпиговальная игла. События нанизываются – и получается очень вкусный шашлык. Я захотел написать так, чтобы у меня не было этого металлического сюжетного стержня, чтобы всё держалось само по себе. И, кажется, это получилось. Ну вот и всё…
_____
Фрагмент беседы Вячеслава Лобачёва с Игорем Шкляревским
Полностью текст опубликован в «45-й параллели»
№ 2 (3786) от 11 января 2017 года
1
*
На станции Чупа нет ни души. И только солнце в полночь светит сквозь осины.
Такая тишина, что стыдно идти по деревянным тротуарам.
Шаги стучат в конце безлюдной улицы, а ты ещё идёшь туда – весь на виду.
Тихая школа, почта, лесопильня – со штабелями свежих досок во дворе. Ворота не закрыты, сторож спит. В белые ночи не воруют.
«Приём грибов и ягод», бывшая часовня. Толстые стены держат идеальную прохладу для сохранения морошки и брусники, но до брусники далеко, и на дверях замок.
Пустая улица спускается к заливу. На берегу сидит мой брат Олег и смотрит, как по зеркалу воды расходятся круги, в трёх шагах от Полярного круга.
Мой друг Марухин перекладывает наши сумки и коробки, надписанные, чтобы знать, где что лежит. Перечисляю с удовольствием: говядина в желе, швейцарский твердый сыр, цейлонский чай, вино сухое красное «Барон» и «Каберне», приправы, лук, подсолнечное масло. Отдельная коробка – соль. Помол № 1.
Когда всё есть, приятно вспоминать о бедности.
Как легко мы раньше собирались! Одна рука всегда была свободной.
Водители грузовиков не брали денег. Машину встряхивало на ухабах, но я стоял, держась за доски кузова, и струи воздуха текли по рукавам, сжимая тело до восторга.
Завидев поворот на Баркалабово, я барабанил по кабине. Водитель тормозил, и я легко выпрыгивал из кузова, кричал «спасибо!» и ничего не забывал, забыть мне было нечего.
– Как легко мы раньше собирались! Одна рука всегда была свободной…
– Но лучше, если руки заняты, – смеётся брат.
До устья С, – реку не называю, плывём на катере хлебопекарни. Берёзовые острова перевернулись и висят в заливах.
Запах свежего хлеба, голодные чайки в зеркальной воде. Конечно, это всё воспоминания, написанные в настоящем времени.
Тогда я просто плыл среди неясных образов и отражений, устроившись между бумажными мешками, ещё не потерявшими тепло.
Необъяснимое влечение души к пустому горизонту…
Катер с хлебом ушёл на острова к биологам.
Марухин что-то ищет в чемодане, завязывает и развязывает рюкзаки и смотрит на часы.
– Ты что-то потерял?
– Не знаю, но чего-то не хватает.
– Не ищи!
– Почему?
– Ты ищешь темноту, её не будет.
– А! – говорит Марухин и хохочет, – теперь нашёл. За это надо выпить.
– О! – говорит Олег.
Недалеко от нас монахи-рыболовы, приехавшие из Кеми, распутывают сеть. Ветер сдул комаров, и на лицах монахов – блаженство.
Марухин аккуратно режет хлеб на валуне. Зовёт гостей:
– Пока нет комаров, давайте выпьем.
Монахи вежливо смеются. Марухин с умилением подносит старшему зелёный огурец и полную эмалированную кружку.
В заливе протянуло рябь, и снова – зеркало. Заныли кровососы.
– Комары отвлекают от вечности, – голос Олега.
Монахи соглашаются, кивая и закусывая.
– Если было начало, значит, вечности не было?
Молчание и звяканье стекла по краю кружки.
– Какая же это вечность, если её не было до начала? Вечность была всегда.
– Одно другого не исключает, – говорит упитанный.
– Не исключает, – повторяет братия.
На мгновение я засыпаю и вижу бельевую верёвку, протянутую над заливом. На ней висят рубахи, брата и моя, заштопанные на локтях, висит наш могилёвский двор. Здесь появляется и не такое! Концом удилища здесь я дотягивался до Гомера!
*
Справа от нас – Морской порог, триста метров ревущей воды. Опустишь руку, и её отбрасывает.
Напротив нас – леса и за спиной – леса, раздвинутые узкой полосой залива, а возле нас, на этом берегу – развалины пустой деревни.
Крыши просели, окна заросли крапивой. С холма на огороды забрели берёзы и подходят елки. Полки генералиссимуса Хлорофилла! – как сказал браконьер из Чупы.
Люди ушли, и мне совсем не жалко, что они ушли. В прозрачной голубой воде остались их бутылки и дырявые резиновые сапоги.
Уцелел только дом на холме, большой и тёмный на закате. В нём живут два одиноких брата, смотрители залива, но река обеднела, смотрителям уже не платят, и проволоку на столбах обрезали.
Не соглашаясь со своей никчёмностью, старший брат выходит утром на крыльцо с биноклем и смотрит на залив, потом плывет к биологам на перекрытие и возвращается с бутылкой спирта.
Два брата разбавляют спирт и молча пьют.
Шатаясь, старший вдоль стены подходит к телефону, накручивает диск и слышит бесконечное молчание.
А младший, неопрятный и небритый, подмигивая, крутит пальцем возле головы.
И ещё уцелел самый крайний дом в заброшенной деревне, с виду мрачный, а внутри приветливый.
Стоит он на пологом склоне гранитного холма, в благоприятном сочетании природных сил; подозреваю, что естественная радиация, слегка повышенная, придаёт нам бодрости.
Раньше в этом ничейном доме останавливались браконьеры и довели его до запустения ужасного.
 Заночевали мы под ёлкой у костра. Утром нагрели два ведра воды. Отмыли стёкла и впустили свет, но запустение стало ещё заметней.
Заночевали мы под ёлкой у костра. Утром нагрели два ведра воды. Отмыли стёкла и впустили свет, но запустение стало ещё заметней.
Ошпарили и обстругали стол.
Марухин сделал веники из можжевельника. С ожесточением мы терли доски пола и выливали в яму грязь. Пришлось пожертвовать пластмассовым ведром. Солнце уже садилось, когда мы затопили печь, чтобы из дома вытянуло сырость.
Потом мы долго мыли руки, холодная вода скрипела под ладонями. Поставили чайник и молча сидели на лавке, смотрели в огонь.
Утром второго дня освободили коридор от хлама. На чердаке валялась ржавая коса. Олег навел её и накосил травы.
Между берёзами мы натянули старую запутанную сеть, которую нашли в кладовке, подвесили в ней траву. С моря дул ветер, и трава подсохла за день. Набили мягким сеном наволочки и матрасные мешки. Запах лесной травы долго ещё проникал сквозь сон.
Весь третий день мы обживали дом. Подвесили мешок для сухарей и хлеба, подальше от мышей.
Марухин сделал новую метлу на длинной палке и подмёл потолок, после чего мы застелили стол клеёнкой. Забили в брёвна гвозди для одежды – выше роста, чтобы случайно не наткнуться головой.
Печь немного дымила, Олег замазал глиной трещины – и на полу, на стенах, на стекле затрепетали отблески, как в Книге Бытия.
Справились мы за три дня. Четвёртый день нам не понадобился. Солнце светило, звёзды и Луна сверкали над еловым лесом.
И пятый день нам не понадобился. В заливе плавились сиги, летали утки.
Что же касается шестого дня, Марухин вбил в косяк пробои и показал нам, где лежит килограммовый навесной замок.
Теперь к нам иногда заглядывают гости из Чупы и спрашивают:
– Можно у вас заночевать?
Они признали этот дом за нами.
*
Солнце блестело. Я стоял на влажной полосе отлива, и на какое-то мгновение всё стало незнакомым.
Был только блеск и запах свежести, щемящий, как воспоминание, оставленное морем на мокром берегу. Я смутно помню этот острый сиротливый запах и отчуждение зеленоватой мглы, когда ныряли в детстве с ледореза и, вынырнув, вытряхивали воду из ушей, и становились зрячими, чтобы увидеть жалкие сараи и обгорелые развалины. Такой мучительный и долгий путь из хрусталика девственной влаги – к помойкам и развалинам.
– Доброе утро, – сказал Марухин.
На плоском ледниковом камне лежало полотенце.
Я всё узнал. Всё стало на свои места. Песок был чистым, без следов, оставленных резиновыми сапогами. Мы посмотрели молча друг на друга, всё понимая. Рыба, которая вошла в залив, стоит в пороге. Мысленно я подбирал блесну, учитывая яркий свет и быстроту воды.
Мгновенно пережитые века меня уже не волновали.
*
Две струи расходятся от камня, и вода курлычет, как журавлиный клин. В таких местах всегда стоят лососи.
Утром я подхожу к полузатопленному камню. Браконьеров не было, не натоптали.
Изогнутая узкая блесна из серебра и самоварной меди сверкает на моей ладони, и меня познабливает от волнения.
Завязываю мокрый узел, соединяя леску и блесну.
Река здесь поворачивает, образуя улово, идеальное место для ловли в пороге.
Кто-то меня отвлёк, и дальше я писал в прошедшем времени, оставлю всё как есть.
Светилась леска, уходя в поток. Я был один и ждал удара по блесне, плавно подматывая тонкую нейлоновую жилу. Я видел всё вокруг и даже за спиной, запрет на ловлю обострял мой слух и зрение, и осязание, и всё знакомое вдруг становилось незнакомым. Вода, река…
Откуда появилось это прозрачное и беспрерывное струение, живое и не знающее боли? И вот я ничего не понимаю и не могу сказать, о чём я думаю, как будто я прозрачный Бог безлюдья, пронизанный тоскливой свежестью незнания.
Волнение и одиночество делали всё вокруг моим. И пустой горизонт, и песок без следов человека.
Тонкий запах воды соединял меня с началом жизни, как будто у меня туда есть ход, обратный ход к безлюдью, я был и здесь и там одновременно, откуда можно всё начать сначала.
Застигнутый наивным сожалением, – здесь всё не так, не удалось, по-детски всхлипываешь, и пронизывает жалость.
Никакими словами её не расскажешь, разве только слезами во сне. Это плачет душа над собой, надо всеми, и курлычет за камнем вода.
Сиротливая свежесть безлюдья и камень, которому тысячи лет. Как долго меня здесь не было…
Первая мысль – зацепил блесну, и надо же, на дне потока. Но камень ожил! И задвигался…
Страшная сила вырывает из рук удилище. Сверкающая сёмга толщиной с бревно, – бросается вниз по течению. Сдержать её в потоке невозможно, и я бегу за ней по скользким валунам, одной рукой хватаюсь за кусты, в другой удилище, изогнутое до предела. Бешеный блеск мелькает в глубине потока, смотала метров сорок лески и далеко – из яростного круга вылетает хвост!
Поток раздвинулся и переходит в плёс, течение ослабевает, сворачиваю рыбу со струи. Остановилась и трясёт удилище, пытаясь вытряхнуть блесну из пасти.
Рывок и визг катушки. Успел ослабить тормоз! Вожу кругами, отпускаю и подтаскиваю… И наконец она выходит на поверхность, перевернулась и блестит широким серебристым боком.
Оглядываюсь, чтобы не упасть, и вывожу её на галечную отмель. Хватаю за упругий хвост (вся сила у неё в хвосте!) другой рукой беру её под жабры, выношу на берег, с трудом прижимая к земле, освобождаю от блесны, выдёргиваю острые крючки из челюсти, – тройник вонзается в ладонь. Липкой от крови верёвкой обматываю хвост, двумя руками поднимаю рыбу и несу подальше от воды в кусты, выдавливаю из распоротой ладони кровь, меня слегка трясёт, вверху Марухин машет мне, бежит с холма и что-то говорит, но я не слышу, рот пересох, зачерпываю горсть воды и замечаю – полное неба, в листьях плавающее лицо.
Сажусь на камень, в левом сапоге – вода. Сижу и бессильно смотрю в пустоту.
Марухин расстелил клеёнку, разделывает рыбу, втирает соль в бока и вдоль хребта. Споласкивает нож. Вода уносит гаснущие в глубине чешуйки.
От удивления я вскрикиваю… Так близко – старый тополь с бельевой верёвкой и деревянные сараи – над валунами и водоворотами.
Прорывается время, и вдруг выплывает лицо одноклассника, возникает без всякой причины чужая беседка, тарелка со сливами. Зачем над ледниковым валуном висят эти сливы в тарелке?
*
Солнце катится по горизонту и не заходит. Можно бросать блесну и днём и ночью.
– Который час?
– Не знаю!
– А какое сегодня число?
Измученные комарами и бессонницами, Марухин и Олег запутались в космических кругах.
Всё время над водой, – я вижу и себя со стороны, не понимая своего присутствия.
Олег засунул голову в пустой рюкзак.
– Спокойной ночи!
*
Марухин спрятал сёмгу и забыл, где спрятал.
Закрыв глаза, он мысленно проходит берег.
– Так, так, так…
– Где ты её поймал?
Бессильный смех! Не помнит от волнения.
– А кто её разделывал?
– Ты…
– Так я и спрятал возле сломанной берёзы.
– Нас заморочило.
– Неважно! Ты сейчас стоял с закрытыми глазами, чтобы вспомнить, кстати, ты иногда похож на грека. Это тайна Гомера…
– Почему Гомера?
– Он был слепой, а у слепых сильнее память, как пожатие у одноруких.
– Так…
– Он мог запомнить тысячи стихов, учёные не догадались.
– Снимаю шляпу.
– Они же сёмгу здесь не прятали!
Марухин, запрокинув голову, хохочет.
– Запомнить мог, но если он не записал…
– Я думаю, что у него был поводырь, подросток. Тысячи раз он слушал Илиаду. И этот отрок овладел письмом, греческий алфавит уже возник, и записал. Мне кажется…
Далекий звон пронизывает небо.
– Мне кажется, я знаю имя этого подростка.
– Гомер?
– Вот именно!
– А тебе не кажется, что это звук – не «Ветерка»?
– Да, это «Вихрь».
И нам уже не до Гомера.
*
Лох – это сёмга перед нерестом, самец, похожий на индейца в боевом наряде.
Его серебряная чешуя тускнеет, превращается в сиреневую, на боках проступает малиновый блеск, сиреневая переходит в фиолетовую и чернеет, челюсть удлиняется. Оранжевая плоть, измученная голодом и созреванием молок, становится бесцветной, дряблой, сёмга в реке не ест, подпитываясь только мошками и комарами. Ловить такую рыбу – грех, хотя она вкусна в период фиолетовости.
Презрительное «лох», что означает лёгкую добычу на языке матёрых аферистов, возникло как сравнение с лошалой рыбой, готовой к нересту, но после нереста (в отличие от кеты, кижуча, горбуши, нерки) сёмга не погибает. За это ихтиологи несправедливо называют европейского лосося благородным.
Дальневосточные лососи самоотверженнее сёмги – с их обречённой устремлённостью в реку, на нерест, они запечатлелись тайным образом в сознании японцев и воплотились в жертвенную славу камикадзе.
Чужие озарения меня не вдохновляют и это – не навеянное чтением.
– У вас в стихах есть поговорки, которые я раньше не встречала. Слепому ночью не темно. Тропа дорогу знает… Вы увлекаетесь фольклором?
– Я сам фольклор. И ничего ни у кого не занимаю.
*
В ту ночь мы выбрали открытое сухое место и развели костер, но это не спасло. Дым выедал глаза, нечем было дышать, и мы отодвигались от костра в кошмарный комариный звон.
С кровью размазывали их на лбу и на щеках. Они вонзались в шею, жгли запястья, набивались в уши, прокалывали брюки на коленях, хрустели под ладонями, терзали мозг, просверливали сон.
– Комар запел военную песню, – сказала женщина из Умбы, выпила с нами чаю и поплыла дальше – бросать блесну.
Рябиновые гроздья кровососов висели на носу и на ушах её собаки.
Я выплеснул из кружки слой комаров.
Ну где же ты, ветер? С дождём, с ненастьем…
Лежим, мечтая о плохой погоде. Солнце до дна просвечивает ямы над порогом. Вода упала, плёсы обмелели, даже черника стала дряблой от жары.
Переворачиваясь, слышу лёгкое потрескивание сухого мха. Костёр при свете солнца источает изнурение, отодвигаюсь от него и замечаю, что огонь сегодня красный. С надеждой уточняю цвет.
– Да, красный, – говорит Олег, – кажется, это к дождю.
Марухин отыскал среди своих запасов батарейку и оживил приёмник. Передают прогноз погоды.
– Сделай погромче.
– Громче – звук исчезает.
– Ладно, я и так всё слышу. Штормовое предупреждение по всему побережью. Ну, слава Богу, подойдут дожди!
Олег молчит и улыбается, как в детстве, когда мы ждали на обочине попутный грузовик, измученные голодом и зноем, во времена пустых дорог… Замечу заодно, что не люблю собрания и голосую только на дорогах.
– Олег, ты о чем-то мечтаешь?
– Да!
– О чём?
– Мечтаю поступить во ВГИК.
– Ты же его закончил.
– Ну и что? Разве нельзя мечтать из прошлого?
– Впервые слышу о такой возможности. А ты, Марухин, только не придумывай…
– Я мечтаю о мокрых кустах! Но у Олега интереснее…
– Да, это тонкий ход, когда я был влюблён в свою жену…
– В которую?
– Не сбивай меня с мысли, мне каждый раз хотелось с ней познакомиться.
– Женщины проще.
– Нет, женский ум бывает очень изощрённым. Я выключила телефон с надеждой, что если ты не позвонишь, я буду думать, что ты мне позвонил, а я не знала.
Марухин засвистел… А на реке – ни всплеска.
*
Лес трещал и над нами крутило берёзы. Сзади упало дерево. Мы вышли на открытый берег, и я бессильно засмеялся – иду и стою на месте. Голову сдавило, я почувствовал, как в теле стынет кровь от воздуха, несущегося на меня. Тьма, страх, восторг, и вдруг – тоска, холодный запах неба…
Немного постоял за камнем, отдышался. Дом был рядом, оставалось метров триста пройти по открытому месту.
Надутый капюшон плаща тянул меня назад, я шёл, продавливая воздух, втискивался в него почти бесчувственным телом, рядом мелькнуло красное лицо Марухина, как незнакомое. Задыхаясь, прижался к бревенчатой мокрой стене, нащупал ключ под досками, крапива хлестнула меня по щеке.
– Давай я открою, – крикнул Олег, но я уже открыл замок, распахнутую дверь отбросило к стене, я не удержал её, вдвоём мы тянули дверь на себя и смеялись.
Вместе с мокрыми листьями влетели в тёмный коридор, закрыли дверь на палку и обмякли.
В доме было тихо. Неверными руками я зажег керосиновую лампу, снял настывшую сырую телогрейку и безвольно сидел на скамье. В ушах звенело.
– Вот мы и дома! У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…
– Им-то что, забились в щели и дрожат, а вот геологи, которые сидят в палатке на холме, – сказал Олег.
– Пускай бы их унесло километров за триста.
– Зачем так далеко?
– А чтобы ничего здесь не нашли!
Старый дом содрогался от ветра, по стёклам хлестала вода, мигала керосиновая лампа, гудела печь, на сковородке жарились молоки сёмги. Труба на чердаке захлёбывалась воем и возникало чувство невесомости, наш тёмный дом с сияющими окнами летел во мраке ночи, ведь иногда мы вспоминаем, что летим.
*
Метровая сверкающая сёмга уже у берега перевернулась через голову, – брызги шампанского! – и леска на удилище провисла. Рядом – и не твоя.
От волнения горло моё пересохло. Я наклонился, чтобы зачерпнуть воды, и увидел себя – с блуждающим взглядом, небритого, в просветах между облаками.
Не знаю, который по счёту лосось со сгустком крови на перламутровой губе, разодранной крючком, затянул меня в немыслимую даль, без времени, без имени…
*
Слепой сидел и слушал, как потрескивают в стенах камыши. Странно, что люди их не слышат. Такие лёгкие потрескивания обычно возникают к вечеру, когда приходят дети.
Скоро они придут и принесут ему лепёшки с козьим сыром, прохладную макрель и соль, совсем немного драгоценной соли, она облагораживает вкус макрели.
За это он расскажет им, как осаждали Трою, но остановится на самом интересном месте; слепой был гордым стариком и не надеялся на сострадание.
В дверях уже шептались гости.
Зной уходит, а дети приходят.
Слепой стоял в хитоне и в сандалиях. Красный проём дверей и монотонные гекзаметры заворожили бедное воображение.
Завтра будет макрель, будет соль и поводырь Гомер не на пустой желудок узнает в школе буквы алфавита. Он помнит все стихи из «Илиады», запишет их и поведёт слепого по векам.
Гомер уже сходил к соседям за огнём, принёс горшок углей и запекает рыбу на решётке.
Море шумит в дверях и освежает дом. Скоро наступит ночь, но слепому ночью не темно. Он слышит все цвета и может показать всю радугу на арфе.
Красный – полёт шмеля, густой, басистый звук. Высокий звук шестой струны, звонкие крики чаек, – это синий. И самый тонкий – фиолетовый, приятный писк мышей. Весной, когда кончается мука, они перебираются к соседям.
В литературе я люблю неправду! Слепому снилось фиолетовое лето и на пороге он сказал Гомеру:
– К нам вернулись мыши!
Просыпаясь, увидел глаза без лица и с удивлением подумал: живые существа такие разные, собака, рыба, мотылёк… Только глаза у всех похожие.
Единство множества, зародыши воды из Океана, они возникли раньше наших очертаний и образов существования. Что-то мне приоткрылось из начала жизни, но мысль не дотянулась до безлюдья.
Зажмурившись от блеска на воде, лежал и улыбался, как-то легко смирился с недоступностью.
В окне светило солнце.
Придется закоптить блесну в костре. Ну и дальше – обычные мысли.
Река стала такой прозрачной, что, выходя из лодки, мы зачерпываем сапогами воду. Некляев только появился и уже набрал по целому ведру в сапог.
– О, – говорит Олег, – останешься и приготовишь ужин.
Это – осень. Обманы прозрачной воды. В такое время сёмга на блесну не реагирует и наши спиннинги стоят в углу.
Из серебристого футляра я достал подаренное мне Никитой Михалковым изящное удилище для ловли нахлыстом, такое чуткое, что кончик вздрагивает, если на него садится муха.
Любуясь дорогим изделием из легкого графита, я присоединил к нему катушку, продёрнул сквозь вольфрамовые кольца шнур, привязал поводок с крючком и серым перышком под цвет подёнки, вошёл в стремительную воду перед перекатом, и конический шнур, извиваясь петлёй, унёс невесомую мушку далеко от меня…

*
(Из истории нахлыста)
Нахлыст – это снасть аристократов, придуманная пастухом.
Он пас коров и заодно пытался наловить форелей, но вода была прозрачной, осторожные форели видели рыболова, а далеко забросить лёгкую приманку ему не удавалось.
Вечером он гнал коров домой, и его осенило.
Неизвестный античный пастух сплел из конского волоса леску –
12–8–6–4–2, – скопировал кнут! И крючок с нанизанным кузнечиком улетел на середину реки.
Это было во времена Вергилия, в последнем веке до Новой эры, а во времена Апулея уже ловили на искусственную мушку.
Великий Древний Рим принёс в Европу носовой платок, водопровод и много утончённых увлечений, среди них был нахлыст.
В 1468 году в Европе вышла книга, первая книга о вязании искусственных приманок, написанная Юлианой Бернерс, настоятельницей женского монастыря St Alban’s.
Под звон колоколов монахини выуживали на обед форелей и отражались в зеркале реки. Среди них были очень красивые, и это увлечение, несвойственное женщинам в монастырях (рискну предположить, о чем они и сами не догадывались), имело тайную причину – отсутствие зеркал…
Господь не так суров, как монастырь. В глубоких водах в пасмурные дни отчетливо видны даже ресницы. И грешницы XV века лукаво прихорашивались в заводях, печалясь о своей суровой юности.
Вторую половину XIX века уже пронизывает свист конических шнуров фабричного изготовления. На Альбионе нахлыст стал любимой страстью, обилие лососей вдохновляло издателей, механиков и стекловаров.
«Сэр Артур Конан Дойл имел честь поймать в реке Твид лосося весом в 28,3 фунта».
Изящная коническая снасть не прижилась в России. Дворяне увлекались полевой охотой, к тому же реки нашей средней полосы – тихие, не лососёвые. У нас ловили упрощённым нахлыстом. Удилище из стройного орешника, простая леска и крючок с нанизанной на него подёнкой или мухой – так называемая ловля «на свист». Рассекая воздух, гибкое удилище издавало вибрирующий звук. Поэзия этой ловли имеет свою печальную неповторимость, я был свидетелем её заката. Моё речное детство совпало с последним десятилетием биологической эпохи подёнок и майских жуков.
Никто о них уже не вспоминает.
В зеркальном Днепре отражались развалины. Разбитые заводы ещё не отравляли воздух и реку. Миллионы весенних бабочек-подёнок вылетали из тёплых луговых канав, застили небо, щекотали шею и виски, заполняли воздух нежным шорохом полупрозрачных крыльев. Мы собирали их на деревянных лестницах, на ледорезах и заборах. С утра и взрослые и дети стояли по колено в воде и ловили на подёнку плотву, уклеек, голавлей.
Чуть свет я убегал из дома на реку. Там оставались крысы, коммуналки, помойки с мерзким запахом разрухи, а на реке был праздник – лёт подёнки!
Свистели ореховые удилища. Блестели глаза людей. Рыба жадно хватала подёнок, падающих на воду, и вся река бурлила. На золотых вечерних плёсах расплывались тысячи кругов. От пояса тянулась нитка, продёрнутая через жабры серебристо-синих уклеек и чехоней, за день я налавливал их больше сотни и радовался – хватит всем!
Вечером я выходил из воды. О, мои ноги… Их сводила судорога, я смеялся, они не слушались меня, я падал на песок и яростно их растирал, гибкие детские мышцы быстро отогревались, и я бежал домой с трепещущим уловом. Удилище я до утра закапывал в сырой песок, чтобы не очерствело.
Мать оставляла мне картофельные тёплые оладьи, накрытые тарелкой, и поджаренных уклеек – мой вчерашний улов.
Я жадно ел и засыпал на стуле, в глазах плескалась золотая свиль, вниз головой в реке стояли рыболовы, забрасывая лески в отражённые развалины и облака. Я просыпался на мгновение, приказывал себе встать до восхода, чтобы не заняли мое уловистое место на косе, переходил со стула на диван…
По лунному свету в окно залетали подёнки и садились на старую карту Европы, закрывали Париж и Стокгольм и Лондон, карта шевелилась и шуршала, всю Европу закрывали бабочки-подёнки. Я засыпал счастливый.
*
В окне светает. Надо вставать, но тело моё протестует, не хочет, просит хотя бы час отсрочки, счастливое тело блаженствует в облаке сладостного безволия. А в окне на берёзе висят неподвижные листья, ветер ночью затих. Белое море через день успокоится, в посёлок подвезут бензин. По реке понесутся моторные лодки.
Только сегодня все пороги – наши. Пропускать этот праздник нельзя.
Я чувствую, что засыпаю и во сне иду со спиннингом к порогу. Это – обман! Ловушка.
О, моя воля! Разворотив тепло, отбрасываю одеяло. Неслышно выхожу во двор и умываюсь, не теряя времени, росой.
Марухин и Олег уже проснулись и жалобно вздыхают перед самоистязанием. В кустах нас поджидает миллион холодных капель, но я кричу:
– Вставайте!
А на пороге – ни души, но это только кажется.
Я чувствую, что кто-то смотрит на меня, зверь или человек, не знаю, но чувствую, что кто-то смотрит и не могу понять, откуда мне передаётся сигнал тревоги.
Безлюдье обостряет чувства, соединяя нас с далёкими кострами Святослава, с печенегами.
– Магическая сила взгляда, передвигающего на столе предметы, предполагает под столом магнит.
Смех на тропе… И ни души вокруг, но кто-то смотрит.
– Ты чувствуешь, мы не одни?
– Ещё бы!
А иногда взаправду – ни души, но возникает страх, необъяснимый страх и тишина, молчание какой-то вересковой родины, навеянное свежестью безлюдья. И это память… Её перерубает звук, – жёсткий удар лосося на струе. Круги ещё не разошлись – туда уже летит блесна.
*
(Глазами Юрия Марухина)
– Моторка! – голос Игоря.
Быстро подматываю леску. Смотрю налево, где стоял Олег, смотрю направо, где стоял Заборов, – берег пустой.
Делаю шаг от воды, и я – в лесу. Лежу и собираю ртом чернику, уже немного водянистую.
Мотор звенит! Звук распирает небо. В чёрной лодке несется инспектор Харьковский, от ветра у него жёстокое лицо и на груди – бинокль. Я знаю, он меня не видит, но когда он поворачивает голову, я чувствую волнение и мысли странные… Клён – изобретатель вертолета… При чем тут клён? Они здесь не растут. И я смеюсь. И подосиновики рядом – яркие, такие яркие.
Рёв удаляется, и только воздух ещё звенит в ушах.
Бледный Заборов спрашивает у меня:
– Почему ты смеёшься?
– Я подумал о страусах. Природа очень хитрая, все эти звери с мокрыми носами, с тончайшими мембранами в ушах, все птицы так хорошо умеют прятаться, сливаться с листьями, с корой. И вдруг – страус, с головой под крылом. Это же какой-то вывих природы.
– Но если он думает, что спрятался, значит, спрятался. Одни прячутся в лесу, в траве, а страус укрывается в своем сознании.
– Ерунда, – говорит Олег, – он так спит, а чуть что – убегает, иначе бы страусов уже не было.
– Олег, ты скучный реалист.
– А вот когда услышишь «Вихрь», закройся ватником и стой со спиннингом на берегу.
И все хохочут!
*
Вдруг вижу постаревшее лицо с застенчивой улыбкой. Отец идёт домой с газетами и хлебом.
Он открывает дверь, и в комнату влетает запах хлеба, опередив отца.
*
Домой вернулись ночью. Заборов и Олег несли рюкзак по очереди. Последние три километра шли как во сне. Трава стояла выше роста, вся белая от инея. Чувство реальности исчезло.
С утра мы проловили весь Большой порог и на обратную дорогу едва хватило сил.
Когда Олег снимал рюкзак, его шатнуло. Он ухватился за меня и засмеялся.
Сходили за водой и затопили печь. Поставили неполный чайник, чтобы закипел быстрее.
Дрова мгновенно разгорелись, и сполохи из приоткрытой дверцы затрепетали на полу, на стенах. Дом ожил!
И вот сидим в тепле на лавке и нету сил подняться, нету сил преодолеть безвольную истому, а за дверью в коридоре лежат четыре сёмги, их надо засолить, чтобы во сне о них не думать.
Здесь даже чешую на берегу не оставляют… Здесь даже чешуя, забытая на мокром камне, – донос на самого себя.
Надо встать, надо выйти из тёплого дома, но всё моё измученное тело не соглашается с насилием.
– Встаём?
Смиренная улыбка брата и всхлип Заборова, он смотрит на меня, как будто я веду их на Голгофу.
Выходим на заиндевелое крыльцо – под звёзды. Холод сжимает голову. Спускаемся к ручью. На ледяной траве, я чувствую её коленями, распарываю рыбу, выбрасываю потроха и жабры (выдры съедят), с трудом удерживая на весу тяжёлую сверкающую сёмгу, полощу в ручье. Руки ломает холод, ноющий в локтях. Заборов светит. Втираю соль в чешую, в оранжевые толстые бока, скриплю зубами, – в порезанные леской раны проникает соль, руки горят, споласкиваю нож, бесчувственные пальцы не удерживают мыло, ускользнувшее на дно ручья.
– Я достану! – говорит Заборов и с вытаращенными глазами погружает руку до плеча в холодный кипяток.
– Рука горит!
– Горит?
Олег беззвучно сморщился от смеха. На мокрых валунах блестит Луна, небесный холод колет прямо в мозг. Споласкиваю задубевшую клеёнку.
Олег укладывает в полиэтиленовый мешок метровую, облепленную солью рыбу. Пусть постоят в тепле, быстрей просолятся.
Молоки мы сейчас поджарим и съедим, для бодрости.
Какое удовольствие! – вернуться в тёплый дом, напиться чая, снять резиновые сапоги и отсыревший свитер, лечь на кровать и слушать, как постреливают в печке еловые дрова.
Обрывки мыслей… Синяя вода… Во сне я вскрикиваю… Красные осины, горнист и барабанщик в алых галстуках, в пилотках и трусах – застыли возле Колизея.
Вытряхиваю их из головы и до утра сознание моё отсутствует, но интересно, есть ли у меня живое прошлое до моего рождения, отмеченного в паспорте? Бессмертие души не после смерти, а до возникновения моей телесной оболочки?
Если я был в промежутке живого отсутствия длиною в миллионы лет, я буду и в промежутке № 2, вода и воздух сохранят меня, мой закодированный образ, невидимый, но мало ли невидимых реальностей. Разве мы видим музыку? Разве мы видим запахи цветов и мысли?
Не усложняя призрачную жизнь (особенности нашей памяти), мы сохраняем смутное воспоминание о своём существовании до появления из чрева. И запахи воды напоминают нам о живом отсутствии… Жизнь после смерти – утешение для тех, кто целует крест и ставит свечки. Жизнь до рождения – вот упоительная тайна моего присутствия!
Третий и тридцать третий мне неинтересны, они из чрева матери, меня волнуют первый и второй… Они откуда?
*
Иду песчаной полосой вечернего отлива.
Под ногами она сырая, серая, а впереди блестит.
Мне хочется пойти по золотой блестящей полосе, но между нами – серый промежуток, я не могу его переступить.
Иду по серому песку, а золотой всё время впереди, и я иду туда, полуслепой от блеска, и смеюсь, смеюсь бессильным смехом – затянуло!
Магия недосягаемости уже ведёт меня, лишь несколько побочных мыслей неясно возникают на ходу и белые зигзаги чайки сопутствуют как ангел здравомыслия.
Иду на блеск, но чувствую, что появился страх и контролирует пределы отрешённости…
Я сел на камень, закурил и стал смотреть в другую сторону. В глазах ещё сверкала золотая полоса, заманивая в бесконечность.
В тоскливой тишине пустого берега я нехотя поднялся и пошёл к причалу, где живут биологи.
Хотелось есть и голод становился всё острее. Желание дойти до пристани и возвратиться с тёплым белым хлебом – стало целью, но уже доступной. Сосредоточившись на ней, я обманул недосягаемость...
Перехитрил её обычной целью и снова стал счастливым рыболовом.
Во вторник и в четверг сюда приходит катер из Чупы и я боялся опоздать.
*
– Как интересно ты сказал…
– Что я сказал?
– Движения не исчезают.
– Ни одного! Я накопил их миллионы – с детства, когда махал удилищем и наклонялся под свисающими ветками. Сегодня я – миллионер движений. Они – мой золотой запас, мой тайный капитал. Они спасут меня от жалкой участи смешного старика, не попадающего в рукава руками, не чувствующего на подбородке крошку от печенья, пожалуй, это стоит записать, до вечера забуду.
Их тайна в том, что их пронизывали чувства – восторг, азарт. Только они не исчезают.
Марухин говорит:
– Олег, возьми ведро и с чувством принеси воды!
– А ты с восторгом подмети полы!
Выходим на тропу и продираемся сквозь сухостойный ельник. Естественная иглотерапия…
Олег отводит ветку и открывает впереди реку. Марухин на ходу срезает подосиновик.
– Движения не исчезают!
*
Вечером я отошёл от дома налегке – набрать на ужин подосиновиков и оказался перед незнакомым озером. Меня насторожила тишина. До этого я слышал шум порога, но грибы заманивают…
Вечер был тихий, серый, затаённый, и я не знал, где солнце. Пошёл назад к реке и не нашёл реку. Вернулся к озеру, но озеро исчезло. Я заблудился!
До темноты остался час, не больше, и жутковатый холодок проник в меня, на севере можно идти неделю и никуда не выйдешь. Ни людей, ни огней, только мои следы.
Только мои следы… А это значит, что корни срезанных грибов – мои следы! По ним я раскручу обратную дорогу.
По ним я раскручу… И никогда я так не радовался боровикам и подосиновикам, как срезанным корням!
В темнеющем лесу я вскрикивал, увидев почерневший корень, а вот и белый, хорошо заметный, и снова тёмно-фиолетовый… Слух, обостренный страхом, уловил далёкий шум порога. Я раскрутил свои круги и наконец увидел сквозь кусты реку, но сразу не узнал её.
Я вышел к Малому порогу. Вот куда завернуло меня! Километров на пять. Лес водит человека, и грибники не замечают, что идут по кругу, повторяя незаметно для себя движения планет и звёзд. К тому же правая нога сильнее левой, и нас заносит влево, против хода циферблатных стрелок.
Я вышел на тропу, петляющую вдоль реки, тропа дорогу знает! И впереди – окно, сияние окна. И тёплый дом.
Марухин говорит: – А вот и ты! – отодвигая в угол собранный рюкзак. И младший брат уже надел резиновые сапоги. И на столе, как в детстве, – керосиновая лампа…
– Ну и страху же я натерпелся!
– А мы? – сказал Олег.
*
На Сояне и на Мегре всего важнее слух. Пока увидишь, десять раз услышишь.
Марухин поворачивает голову и смотрит на меня. Летит Ан-2, и я рукой показываю в небо. Волнение и зеркало воды преобразует колебания и к вечеру, когда я устаю, во мне играет музыка, я слышу голоса детдомовского хора на улице Селянской в Могилёве.
Аберрация… Причуды внутреннего слуха и совесть памяти.
В словах «Церера», «цензор» Брут после убийства слышал: – Цезарь, Цезарь… Ведь совесть есть у всех. И у преступников есть совесть.
Игрок «Луна» сказал мне в академии, так называли биллиардную ЦПКиО:
– Никто из них свое не прожил, непойманные всё равно своё не прожили.
– Стоять! – крик за спиной, и сердце обрывается ведром в колодец.
Да это же сосед: «Стоять! Сидеть!» – командует своей собаке. А сердце полетело вниз… Ну их всех к чёрту!
Марухин чувствует меня затылком и поворачивает голову.
Скрестив ладони, я показываю, что пора идти домой, пока светло.
Осенней ночью тихий стук в окно, охрипший голос:
– Игорь…
Откроешь дверь в сверкающее небо, – тело сжимает холод. Звук буквой «у» летает в темноте.
У-у-у-у-у – это плач, связующий с Луной, и у китов преобладает «у» – бездонный звук океанических глубин.
С чего бы вдруг я написал об этом?
Утром перечитаю. Оставлю или выброшу. Утром приговоренному к смертной казни иногда зачитывают помилование. Всю ночь он превращался в гусеницу, прятался в дырке от гвоздя, мотыльком пролетал сквозь решётку и становился воем с буквой «у» – в бесконечной тоске расстояний.
*
До темноты ловили на Большом пороге. Ничего не поймали. К ночи заморосило. Хотели сократить дорогу, сделали круг и вернулись к реке. Надо было идти по тропе. Кусты, трава – всё было мокрое. Ватник на плечах набух. Ноги цеплялись за траву. Я спрятал спички на груди, пустой рюкзак прикрывал мою спину, но рукава набухли по швам. Оставалось пройти шесть километров. Дождь уже хлестал по спине. Под ёлкой развели костёр, но даже ёлка протекала.
Блеснула молния и я увидел на поляне стог, от костра побежали к нему. С подветренной стороны подрыли сено и забились в норы. Вода подтекала под бок, я стал раздергивать траву, чтобы согреться.
Лежали молча, слушали, как небо падало на землю. В ознобе я вдыхал его тоскливый свежий запах, вспоминая юность и Елену.
Шёл дождь, она стояла на перроне в мокром синем платье, и я хотел, чтобы она уехала, мне нужно было потерять её, чтобы любить всегда. Ещё я вспомнил, и сдавило горло – невыразимое, навеянное запахом дождя. В тёмном сквере перед кинотеатром «Родина» над нами шумели берёзы. Что-то ещё там было, какой-то призрак прошлого с античными колоннами, как отражение домов, которых нет…
Измученные и промокшие, мы курим на крыльце и медлим, не открываем дверь. Стоим и наслаждаемся возможностью войти через минуту. Брат улыбается потрескавшимися губами. Двенадцать километров превратились в метры, и то, что в двух шагах за дверью – тепло, уют, сухая чистая одежда и чайник на плите – доставляет нам больше удовольствия, чем возвращение без этих нескольких минут стояния на холоде.
Какие вкусные! – засохшие баранки и завалявшиеся в рюкзаке фруктовые конфеты «Слива».
Сегодня я обнаружил их, и вот мы наслаждаемся вечерним чаепитием.
Тихий ужин в лучах керосиновой лампы, легкое радостное тело…
– Скоро старость! – весело сказал Марухин и на лету поймал стальную ложку, выскользнувшую из пальцев.
– Пока она летела, я подумал, что придется её помыть, ну уж нет! От стола до пола – меньше метра. Время падения – о… секунды. Но я её
поймал! Сколько же мне сейчас? По паспорту или по сообразности движений?
Напившись чая, мы чувствуем приливы сил и спать не хочется, как в юности. Сияния из приоткрытой дверцы дрожат на стенах, на полу. Можно лежать, мечтать и слушать ветер, завывающий над нами, хоралы Баха, соло для печной трубы, многоголосие чердачных песнопений. И чем они тоскливей, тем уютней в доме.
Марухин движется легко, почти неслышно, не помню, чтобы он упал или споткнулся, позовёшь – мгновенно просыпается.
Легко несёт два рюкзака, не укоряя взглядом. Седые волосы облагородили его лицо. Отзывчивость и деликатность стали тоньше. Однажды я читал ему стихи – капля неба согрелась на лбу, – он молча показал мне руку, покрытую мурашками.
Одни с годами потеряли свою порывистость и стройность, их лица превратились в сморщенные старые грибы, а Марухин набрал.
Думаю, что незаметно для себя он стал подражать своему отражению и в мыслях появилось соответствие внешнему облику.
Раньше он был идейно правильным и осторожным, но похороны старых режиссеров и бедных кинооператоров, крамольные слова у гроба, поминки с неожиданными откровениями – свели его с намеченной дороги на тропу, засыпанную золотыми листьями. Она ведь никуда не уведёт, только к реке.
*
Утром идёшь и слышишь за спиной стеклянный шаркающий звук. Это трава, прихваченная холодом, уже слегка звенит. Выходим на тропу. Над головой Олега, чуть левее, повис знакомый деревянный мост, построенный сапёрами, когда освободили Могилёв. Повисел и пропал…
Улавливаю звук и подымаю руку. Стоим и слушаем.
– Вертолёт?
– Нет, это самолёт.
– Жаль, – говорит Марухин, – что мы не видим и не слышим километров за двадцать.
– Зачем?
– Ну как зачем? – спиной смеётся брат.
– А комары, Марухин?
– Что комары?
– Оглушительный звон комаров!
– Об этом я не подумал.
– Все наши идеалы существуют благодаря несовершенству зрения и слуха. Ты хочешь, чтобы у тебя в глазах отчетливее проступили кровеносные сосуды?
– Не хочу.
– Гладкая кожа станет пористой, как под увеличительным стеклом.
– Не надо!
Пока мы выявляем на ходу все преимущества несовершенства зрения и слуха, небо затягивают поволоки тонкой мороси.
В тихие пасмурные дни, в тихие пасмурные дни… Ловлю себя на том, что молча повторяю одно и то же и судорожно втягиваю воздух. Волнение слегка сжимает горло. Я подхожу к воде.
*
В тихие пасмурные дни я подходил к воде.
В ней отражались ивы, рыболовы, соломенная шляпа нашего учителя Павла Семеновича Конюхова. Однажды он собрался на реку, сел на диван и, улыбаясь, умер с бамбуковыми удочками на коленях. Счастливый рыболов!
В тихие пасмурные дни вода под ивами была бездонной.
Меня тянуло к ней и я не знал, что это память о моём отсутствии, неясное воспоминание о миллионах лет, когда я был водой.
Я подхожу к мерцающему сливу над порогом.
Скоба отведена. Легкий бросок кистями рук, и жёсткое удилище пружинит, издавая тонкое – уинь!
Скользя сквозь кольца, светлый луч летит через реку. Блесна удачно падает – плашмя. Шлепок и наглый блеск приводят сёмгу в ярость. Сейчас она ударит по блесне, я чувствую её. В тихие пасмурные дни, в тихие пасмурные дни…
Я медленно подматываю леску.
Сёмга бьёт по блесне! Бьёт как дверной пружиной в проходной кроватного завода, где в юности я ненавидел стены, покрашенные серой краской с пузырями.
Удилище согнулось и дрожит. Леска завыла – на пределе. Рыба идёт по кругу, значит, прыгнет. В момент прыжка я отпускаю тормоз на катушке.
Гашу прыжок, – лишаю леску жёсткости, и сёмга мечется с блесной во рту. Неумолимый светлый луч ведёт её к расплывчатому силуэту рыболова, но, сокращаясь, этот луч теряет свою коварную тягучесть.
Почти на берегу она хвостом закручивает воду, переворачиваясь через голову в своём последнем взрыве несогласия и разгибает два стальных крючка на тройнике, но нету сил уйти на глубину. Она лежит на отмели, хватая воздух жабрами, бессильная сверкающая рыба идеальной формы. Все самолёты – эпигоны сёмги!
Я поворачиваю и держу её спиною кверху, животом ко дну и не даю ей завалиться на бок, вожу её вперёд-назад, гоняю воду через жабры, стою согнувшись, руки затекли, застыли до локтей, держу и чувствую, как дрогнула её упругая спина, как развернулся и напрягся хвост; я отпускаю руки и сёмга от меня уходит в глубину потока.
В тихие пасмурные дни бывает на душе светло и тихо. Волнение прошло и я уже не повторяю: – В тихие пасмурные дни…
*
– Я знаю, почему вначале Иисуса называли рыбой.
– Рыбой?
– Так его иногда называли.
– Я этого не знал.
– Икринки возникают в ней сами по себе, как непорочное зачатие.
– Гениальная мысль…
– Это не мысль. Просто пришло, и я сказал.
– Сейчас?
– Да, сейчас, на ходу.
*
Подростки иногда придумывают тайны о своем рождении, стыдясь отца и матери и намекая на других родителей, они творят в себе чудесную идею Библии, не прочитав её.
Утром я убегал из дома на реку и целый день смотрел на поплавок из пробки и гусиного пера.
В глазах текла река, и только поплавок был отрешённой точкой, где я встречал и провожал одновременно каждое мгновение.
Не замечая одиночества, смотрел на поплавок, а за спиной подкрадывалась туча и, озираясь, я вдыхал щемящий запах дождевой воды, какой-то пресный и невыразимый, пронизанный тоскою неба, и судорожно всхлипывал, пытаясь что-то вспомнить, скитания в дождях какой-то капли влаги с её тысячелетней немотой и затаившимся в ней прозреванием.
Четырнадцатилетний рыболов, я не читал о том, что дух летал над водами. Вокруг меня клубились облака, легенды, мифы, я их не знал, но не любил людей.
На правом берегу чернели обгорелые развалины, сараи и помойки, а левый берег был в плакучих ивах, в одуванчиках и я бежал туда, где было радостно.

*
Далеко за лесами утром слышен звук, напоминающий протяжные гудки старинных пароходов.
Расстояние делает лосиный рев почти неузнаваемым и в ясном небе надо мной проплывает мистический звук.
Я спускаюсь к реке, чтобы умыться, и меня передергивает от стылого блеска воды, по спине пробегает озноб.
Звук трубы уже проходит сквозь меня и как в детстве, пронзительно и безутешно я понимаю, что мне предстоит умереть, исчезнуть навсегда, а я не согласен и у меня нет утешения. И нет смирения.
Святые отцы наводят на меня тоску своей риторикой. Философы отделались грустными шутками и афоризмами. Мгновения, которые мы называем славой и успехом, ведь у меня всё это было, милиция мне отдавала честь на улицах – после стихов, прочитанных на Красной площади во время первомайского парада, – меня не утешают.
Впереди – бесконечное отсутствие. И самое страшное – угасать бессильно и безвольно, понимая, что это наступило, под задушевную песенку в репродукторе богадельни: «Мои года – мое богатство». Никакого богатства лет не существует. Время – карточный шулер. Недобор, недобор, перебор…
Страшнее личной смерти есть только неизвестный мне предел существования Земли. И здесь я не согласен, но бессилен.
Заботы спасают меня от бессмысленного несогласия. Надо принести воды, пока родник не затопило море, развести костёр, помыть посуду. Надо сходить к единственному жителю оставленной деревни, взять ключ от лодки и наловить трески на ужин, самое время – в середине прилива.
Марухин придёт в темноте. Поймал он или не поймал? Вот и ревность помогает мне спрятаться от вечности за лодками, за сковородками.
Голод усугубляет грустные мысли, но золотистый цвет поджаренной трески и сполохи огня, играющие на бревенчатой стене…
В коридоре затопал Марухин и по его глазам я понял – он поймал!
Где взяла? На какую блесну? Ну её к черту, – меланхолию с её мистической трубой за лесом. Это же «движенье», четвёртая неделя сентября, все звери движутся, лоси ищут друг друга и оглашают лес мычанием, похожим на гудки старинных пароходов.
По имени её не называют.
– Она пришла?
– Она уже в реке.
*
Ночью поднялся такой сильный ветер, что наш старый дом продувало насквозь. От окна тянуло холодом. Тонкие как леска сквозняки пронизывали воздух, проникая сквозь щели в рамах, сквозь дыры от выпавших гвоздей, и пламя на свече металось.
Опасно было выйти в лес к источнику, там с треском падали деревья. Хорошо, что мы запаслись водой и дровами.
Огонь, тепло и ветер, воющий на чердаке, навевали уют. Я снял с плиты круги и подержал над пламенем буханку хлеба, чтобы внутри он задышал, а сверху стал хрустящим, такой ещё вкуснее свежего.
Марухин на доске разделал малосольного сига, прозрачно-розовая рыба под серебристой плёнкой истекала жиром. Я сглотнул слюну. Картошка уже сварилась.
Набросив телогрейку, я нырнул в холодный коридор и осветил ведро с грибами. Набрал в эмалированную миску солёных подосиновиков, вдыхая острый кисловатый запах леса и укропа. Вот и осень! Жаль, что Олег уехал, он сказал бы: – Чего-то не хватает!
Марухин с постоянными повторами и сожалениями «кажется, последняя», – извлёк «Пшеничную» из ящика с крупнозернистой солью, никто так не умеет прятать, как Марухин.
Мы выпили прохладной водки, заели скользкими, как устрицы, грибами и захрустели обгорелыми горбушками.
Картошка таяла во рту. Обыкновенный чай, грузинский, показался нам вкусней цейлонского, такая здесь вода в ручье, да и в реке вода чистейшая, но рыболовы, проплывающие мимо, останавливают лодки, чтобы набрать воды из этого ручья.
Ветер с Белого моря выдавливал стёкла.
Марухин погасил свечу, вторая догорала. Знакомый браконьер научил нас экономить свечи. Если её покроешь тонким слоем мокрого мыла, свеча горит гораздо дольше.
*
(На Сояне)
Инспектор – самый одинокий человек в посёлке. Запрет на ловлю сделал всех его соседей браконьерами. И некуда ему пойти. И некого позвать домой. Как неприкаянный скитается он по реке.
Кого ловить? Хромого друга детства, у которого одна приличная рубаха?
Промокшего в кустах подростка с блесной и леской на консервной банке? Обиженных не обижают. Отвернувшись, промчится Валерий Харьковский, всегда простуженный, весь день в моторной лодке, разбивает ветер головой.
А протоколы надо составлять. Над порогом заночевали туристы. В байдарке – спиннинги. С чугунным лицом, только так! – оформил изъятие, выписал штраф, от чая отказался.
Под звон мотора в голове гремит забытая мелодия.
– И сотни тысяч батарей
за слёзы наших матерей.
При чём здесь это? Никакого соответствия. А мелодия гремит, и ветер набивает уши. С каждым днём он всё пронзительней, всё холодней. Уже кричат за облаками гуси. Скоро станет река. День превратится в узкую полоску света, как щель под дверью. Можно лежать в тепле, читая исторические повести, под завывание ветра, как в детстве.
*
– Жаль, – говорит Марухин, – что люди не имеют крыльев. Слетали бы в Мезень, купили свежих пряников…
Крапивин смотрит на него насмешливо и замечает:
– Крыльями даже пуговицу не пришьёшь.
*
(Крапивин)
Лёгкое тело, шурша, отделяется от земли. По зеркалу плёса расходится круг. Из-за куста на всплеск летит блесна. Не взяла… Три заброса и дальше – по еле заметной тропе вдоль реки. И наконец – толчок в блесну. Сидит! И судя по изгибу жёсткого удилища, – нешуточная рыба. Катушка больно бьёт по пальцам, – не включил трещотку, прижал и тормозит рукой, зато без шума. Сёмга бросается вниз по течению, выплёскиваясь из воды всей мощью идеального сверкающего тела, стремительно разматывает леску, и браконьер бежит за ней, остановить нельзя, – прорвётся узел или вытащишь кусок оторванной губы, бежит, набрав воды в короткие резиновые сапоги, споткнувшись, падает лицом вперёд на мокрый можжевельник, но, даже падая, удилище не опускает, – выдерживает угол между удилищем и леской.
Вскочил, поднял багорик, хорошо, что не воткнулся в ногу, засунул в голенище и озирается – ищет пологий берег, чтобы подвести ещё бушующую рыбу, торопится всадить в неё багорик, нырнуть в кусты, дрожащими руками вытащить тройник из пасти, отсосать из ободранных пальцев и выплюнуть кровь, оглушить увесистую сёмгу, сползти к ручью, вспороть серебристое брюхо, любуясь оранжевой плотью, вырвать жабры, выпотрошить рыбу, надрезать вдоль хребта, чтобы проникла в спину соль, ополоснуть в ледяном родниковом ручье тяжёлую гибкую тушу лосося, облепить её солью, втереть в бока, в надрезы, завернуть в холстину, закатать в мешок, добежать до поляны, где оставил моторную лодку, полную скошенной травы, мешок и спиннинг затолкать в траву, дёрнуть веревку – затарахтел «Ветерок» и, сковырнув чешуйку с рукава, летит домой счастливый «браконьер». Две сёмги… В поселковом магазине пусто. Овощи не подвезли, свои не успевают вырасти. Хоть рыбы поедят неизбалованные северные дети с почерневшими зубами. Приплыть в посёлок лучше в темноте. Утром он забежит на почту и пошлёт мне телеграмму: «Вышли книгу. Павел», что означает: Приезжай. Она пошла… На пожелтевшей телеграмме дата – 29 августа 1979 года.
*
После гусей недели через две с озёр снимались лебеди. И вслед за ними покидали Север биологи, туристы, собиратели фольклора.
Я приезжал в наш могилёвский дом.
Солнце светило на диван, на старые тарелки с оранжевой солёной сёмгой. Отец пытался аккуратно нарезать рыбу «и зубов не нужно, можно размазывать по нёбу языком», как говорил почтмейстер у Лескова. Такую память, ясную как осень, он сохранил до девяноста лет.
Мать улыбалась, голова её слегка подёргивалась, слабо-синие глаза слезились.
Вдруг она спрашивала:
– А ты не боишься? Ведь эта рыба не для нас.
Я успокаивал её. Отец и мать молчали.
*
С голубоглазым изумлением, о, Игорь! – смотрел на мой подарок Александр Петрович Межиров.
Он обожал таинственное и говорил с преувеличенным восторгом, с экстравагантным заиканием, как будто ночью мы воруем яблоки.
Чистая совесть – не рубаха, которую занашивают к старости, и не были мы лучше в юности, наоборот, мои друзья, старея, стали лучше, благородней.
Борис Кутуза опроверг теорию заношенной рубахи. Ну как его не одарить лососем?
*
Моё любимое удилище не только подсекало и пружинило, передавая мне свою упругость.
Зимой я свертывал и прятал в нём (оно ведь полое) свои крамольные стихи.
И удочку «Шекспир» я превратил в тайник, но никакого тайного расчёта в этом не было, просто боялся подлости какой-нибудь обиженной Далилы и весело подумал – женщины не видят удочку, когда они на неё смотрят.
*
Несколько раз я приезжал на Сояну один, с тяжёлым рюкзаком, здесь ждал Олега и Марухина; заранее я был готов к такому одиночеству, в звенящей тишине пустого дома.
Под вечер тишина придавливала. Зеркальная вода переворачивала лес и холмы, и возникала странная иллюзия отсутствия Земли.
Грубые мысли ставят всё на место, я встряхивал себя и возвращался к дому. Сначала – печь!
Горящие дрова спасали слух от лишних шорохов и непонятных звуков. В конце концов я привыкал… к себе. И мой двойник в реке казался мне знакомым человеком, сопровождающим меня, но даже это было несогласием со схимой одинокого затворничества без книг и без друзей, воспоминание о подземельных норах отшельников с их исступленной набожностью и затхлой духотой не вызывали у меня почтения к преданьям старины глубокой. Вселенная в окне опровергала эти подземелья.
Быть одному легко и даже весело, идёшь и вспоминаешь юность на полутемных могилёвских улицах.
– Кто тебе в старости подаст воды?
– А я не доживу до старости!
Сидел перед пустым окном деревянной гостиницы, смотрел на воду и мечтал о прошлом. Всё так невозвратимо – близко. И такая бедность там улыбается, не жалуясь и не завидуя, столько счастливых вечеров под лампочкой без абажура, только жалких рублей не хватало, чтобы не было стыдно, когда к нам приходили люди.
Проклятые поздние деньги. Теперь в мечтах я приезжаю с этими деньгами – туда… И делаю их всех счастливыми. Вот я и брат привозим новые диваны, стулья. Выбрасываем старую кровать и всякую подкрашенную рухлядь, только письменный стол оставляем, сделанный отцом из платяного шкафа.
Там было всё на мне, как на вороне, и старый тёмно-вишневый шкаф стоял пустой. Отец смотрел на этот шкаф, доставшийся ему случайно, и улыбался. Такое было у него лицо, когда он вынашивал свой тайный замысел.
Подует ветер, зашумят берёзы, и начинается… На чердаке, на сеновале, под ёлкой у костра, когда согреюсь, вижу два окна, сияющие в темноте, как будто я бегу с Днепра, вижу младшего брата, он проявлял в кладовке фотографии, мечтая поступить во ВГИК.
Вижу воробья, слетающего к нам на стол. Я подобрал его в снегу полузамерзшего, принёс домой за пазухой, и воробей жил у нас до весны, обедал вместе с нами, клевал из масленки, а когда растаял снег и заблестели лужи, он долго чирикал на открытой форточке. «Прощается» – сказал отец, так он пронзительно чирикал и улетел.
Вдруг вижу – деревянный мост и речку Дубровенку, и девочку в нарядных белых гетрах с нотной папкой, с бантом на голове. Она почувствовала, что я обожаю её и тонко улыбалась, а я шёл ей навстречу и не мог дышать.
Шёл, ненавидя полное ведро картошки – в одной руке, и десять литров керосина – в другой, но если бы не эти тяжести, я улетел бы в небо.
В окне течёт река. Всё сбывается в прошлом. И обломки воздушного замка тяжелее кирпичных…
Но долго с этим жить нельзя, из-под обломков надо выбираться.
*
(На Керети)
Интеллигентный даже в телогрейке биолог Сидоров сказал:
– Успеем!
Доплыли на его моторной лодке до Чупы. На двери магазина – амбарный замок.
– Придется ночевать.
– А где?
Я заглянул в окно инспектора Рязанцева, – белая ночь сверкает в зеркале пустой квартиры. Уехали…
Пересекая запахи хлебопекарни, остановились…
Я подошёл к окну, просительно соединив ладони. Там засмеялись и вытолкнули нам буханку хлеба с затёками печного жара на хрустящей корке.
Только хлеб можно есть в темноте, под стогом сена. Яйцо – нельзя и яблоко – нельзя, в нём прячется червяк.
Подождали, пока он остынет. Поели хлеба и запили из колонки, ловя губами жёсткую струю, такую сильную, что на губах осталась боль, как от удара, но холод исцелил.
– А что не доедим, то птицам отдадим! – Сейчас придумалось.
Я положил остатки на бревно и вообще я не молюсь траве, ведь хлеб – это трава.
Дошли до леспромхоза. Сторож вспомнил – «ты подарил мне сигаретки» и открыл контору.
В углу лежали лозунги, натянутые в деревянных рамах.
– А вот и раскладушки!
Устроившись на лозунге – Мир! Май! Труд! – я накрылся ватником. Из форточки тянуло винным запахом опилок, сырой коры.
Нет одежды удобнее ватника. Он ничего не весит, в нём тепло, легко, движения не стеснены, он дышит, он – быстро высыхает у костра, он – вещь почти одушевленная, поэтому местоимение «он» кажется мне уместным, к тому же наши пиджаки, рубахи, висящие на стуле, запечатляют наши настроения… Бывает, рукава висят как у подранка, встаёшь, превозмогая сон и поправляешь их, чтобы летали!
Правда, обычный ватник из х/б напоминает о лесоповалах и колючей проволоке, но дорогая шляпа из велюра и свежий воротник рубахи придают естественный изыск паломнику воды со спиннингом и золотой блесной с клеймом пробирного контроля.
В ненастье ватник идеально сочетается с непромокаемым дождевиком из невесомой ткани. Увидишь на мгновение себя в реке и, улыбаясь, вспомнишь: «пурпурная мантия кардинала была возмущена власяницей бедного иезуита». О, эти книги детства! Они как брошенные рудники, в которых торопливые старатели оставили гораздо больше, чем нашли.
Утром купили десять килограммов серой соли крупного помола, канистру керосина, сто коробок спичек и пряников, засохших, как ракушечник в каменоломнях Рима. Когда рассчитывался, посмотрел на деньги с удивлением, как будто я их не узнал.
Теперь у нас всё есть. И ветер тоже…
Два рыболова мрачно наблюдали, как мы садимся в лодку. Один поймал мой взгляд и покрутил корявым пальцем возле головы.
Метровая волна в открытом море может захлестнуть пластмассовую лодку и затопить в одно мгновение. Мы шли на двух моторах в километре от берега, ближе нельзя, волнение воды опасно тем, что ты не видишь камни. Пробковый пояс не поможет. Холод парализует мозг. Руки и ноги выключаются примерно через три минуты, от силы через пять.
Мы шли всё время под углом к накату, проваливаясь между глыбами воды, десятисильные моторы вытаскивали нас наверх.
Страх освежает чувства, но незаметно я перекрестился, когда вошли в залив, и крикнул Сидорову:
– Не могу понять Марухина! Он боится инспектора больше, чем Белого моря. Это же какой-то экзистенциализм.
Любое слово вызывало смех.
Спасли нас два мотора, если бы один заглох… Зато вода такая синяя! Я вижу комара –отсюда метров за семнадцать!
*
Как легко здесь опуститься. Не хочется вставать, не хочется варить овсянку, чистить задубевшую треску.
Дрова отсырели, дымят. Опухшие пальцы потрескались и не гнутся, глаза слезятся. Ветер гонит рябь по заливу. Морось. Тоска. Озноб. Заранее всё представляю и ловлю себя на том, что мне придётся сделать это ещё раз – наяву. Два раза… Ну уж нет.
– Вставай! – кричу себе, разворошив тепло.
Отбрасываю одеяло. Хватаю вёдра и бегу к ручью. С отвращением вижу свое лицо, отражённое в тёмной воде – сонный, худой, небритый.
Раздуваю огонь, ставлю чайник, спускаюсь к реке, продраиваю сковороду, что-то кричу самому себе, не стыдясь, потому что вокруг ни души.
Пока остывает чай, бреюсь, глядя в тёмное зеркальце воды на камне.
Улыбаясь, подмигиваю себе, на сегодня отбился от плесени. И уже без озноба умываюсь в холодной реке. О, мои руки… Истерзанные леской пальцы горят, соль разъедает трещины, но в глазах у меня – золотые осины, ведь каждый выбирает сам, на что ему смотреть.
Текст печатается с ведома автора
и по разрешению редколлегии журнала «Знамя»
Иллюстрации:
картины, графика и фотомонтаж выполнены
художником Владимиром Беляковым (город Устюжна Вологодской области)
Владимир – один из первых иллюстраторов печатного издания «45-я параллель»
_____
*Продолжение следует: его мы опубликуем в следующем номере – «45-я параллель» № 8 (392), окончание - в номере № 9 (393)