Золотой петушок и Серебряный Голубь
11 января 1906 г Александр Блок написал знаменитое стихотворение «Сказка о петухе и старушке». В нём рассказывается о пожаре, случившемся в избе старушки, и её гибели. Примечателен, однако, тон рассказа, вводящего мотив смерти. Вот как звучат последние три строфы этого текста:
Долго, бабушка, верно, искала,
Не сыскала ты свой посошок...
Петушка своего потеряла,
Ан, нашёл тебя сам петушок!
Зимний ветер гуляет и свищет,
Всё играет с торчащей трубой...
Мёртвый глаз будто всё ещё ищет,
Где пропал петушок... золотой.
А над кучкой золы разметённой,
Где гулял и клевал петушок,
То погаснет, то вспыхнет червонный
Золотой, удалой гребешок.
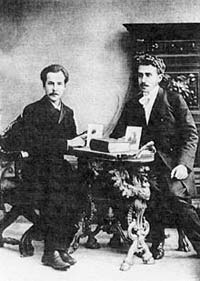 Здесь примечательны по крайней мере три момента. Во-первых, легко угадываемые реминисценции из сказки Пушкина, где золотой петушок является орудием смерти Додона и последующего исчезновения как Шамаханской царицы, так и самого петушка. Во-вторых, во введённом мотиве смерти легко обнаружить две оксюморонных посылки, одна из которых связана с трагическим происшествием, а другая включает в себя отчётливую игру с текстом, остановленную как раз в тот момент, когда ожидаешь перехода изложения в откровенно иронический регистр. В-третьих, сама картина пожара включает символический мотив исчезновения и гибели мира с последующим воскрешением и становлением вновь обретённой поэтической Вселенной, который развивается в написанном в этом же 1906 году стихотворении «Пожар»:
Здесь примечательны по крайней мере три момента. Во-первых, легко угадываемые реминисценции из сказки Пушкина, где золотой петушок является орудием смерти Додона и последующего исчезновения как Шамаханской царицы, так и самого петушка. Во-вторых, во введённом мотиве смерти легко обнаружить две оксюморонных посылки, одна из которых связана с трагическим происшествием, а другая включает в себя отчётливую игру с текстом, остановленную как раз в тот момент, когда ожидаешь перехода изложения в откровенно иронический регистр. В-третьих, сама картина пожара включает символический мотив исчезновения и гибели мира с последующим воскрешением и становлением вновь обретённой поэтической Вселенной, который развивается в написанном в этом же 1906 году стихотворении «Пожар»:
Зданье дымом затянуло,
Толпы тёмные текут…
Но вдали несутся гулы,
Светы новые бегут…
Подобное развитие темы смерти страшного мира, его гибели и трагической радости лирического героя вместе с ироническим лейтмотивом можно обнаружить и в поэзии Андрея Белого. Например, в стихотворении «Старинный дом» (1908) мотив умирания старой барыни отчётливо вводит символическую картину пожара.
Лишь к стёклам в мраке гулком
Прильнёт его свеча…
Над мёртвым переулком
Немая каланча.
Людей оповещает,
Что где-то там пожар, –
Медлительно взвивает
В туманы красный жар.
Позже, в стихотворении «Родина» (1917) мотив смерти окажется связанным с самосожжением и исступлённым заклинанием героя, где ужас и радость сплетены настолько тесно, что разъять их невозможно.
И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня.
Россия, Россия, Россия –
Мессия грядущего дня!
Вслед за стихотворением «Родина» появится другое – «Голубь» (1918), в котором мотив огня соединяется с образом голубя.
В неописуемый.
В огненный год, –
Духом взыскуемый
Голубь сойдёт.
Как можно заметить, и у Блока, и у Белого танатография и сопутствующие ей мотивы не образуют замкнутой системы, но всякий раз варьируются в виде калейдоскопических узоров, образуемых поворотом в ту или иную сторону. Как верно заметила исследовательница Л. Т. Латыйпова, «в поэзии А. Белого очень тяжело проследить чёткую эволюцию “поэтики смерти”: мотивы переплетаются, варьируются, проникают друг в друга. Поэт никогда не делает окончательных выводов. Лишь намечает те или иные аспекты танатологических тем и идей, которые впоследствии будут развиваться в XX веке» [Латыйпова. С.27].
Разорванность мотивов и их калейдоскопичность в качестве значимого принципа стихотворной поэтики Белого должны были трансформироваться при обращении писателя от стиха к прозе. Наличие очерченной, геометрически чёткой фабулы в двух самых известных прозаических вещах Белого – «Серебряный голубь» (1910) и «Петербург» (1912-1916) – коренным образом меняли статус и функционирование мотивной структуры и этим обусловили особенности новых принципов танатографии в творчестве писателя.
На первый взгляд, повесть «Серебряный голубь» сохраняет все признаки классического повествования моноцентрического типа. Главные события разворачиваются вокруг фигуры Петра Дарьяльского, гибелью которого собственно и заканчивается история, поскольку роль остальных персонажей определяется валентностью их отношений к главному действующему лицу.
Хотя, в отличие от трагедий Шекспира или детективов Агаты Кристи, все герои сюжета, кроме Дарьяльского, остаются в живых, мотив гибели в тексте является центральным. Его роль в «Серебряном голубе» выходит за рамки частной жизни и символизирует гибель России, зажатой между увядающей западной цивилизацией и грядущим панмонголизмом.
Фабула «Серебряного голубя» могла бы уместиться в несколько предложений. Пётр Дарьяльский, поэт-символист и философ, влюбляется в красавицу Катю, которая живёт в усадьбе Гуголево со своей бабушкой баронессой Тодрабе-Граабен. Катя также очарована Петром и мечтает о свадьбе, хотя баронесса и не одобряет её выбора. В нескольких верстах расположен село Целебеево, которым фактически управляет религиозная секта голубей и её вдохновитель, столяр Митрий Кудеяров, наделённый колдовской силой и напоминающий гоголевского персонажа из «Страшной мести». В работницах у Кудеярова живёт рябая баба Матрёна. Увидев Дарьяльского, столяр решает привлечь его в секту, свести с Матрёной, чтобы та зачала от него «духовное чадо». Очарованный Серебряным голубем Кудеяровым, Дарьяльский разрывает с Катей, устраивается работником к столяру и сходится с Матрёной. Затем выясняется, что Дарьяльский не обладает такой силой. Опасаясь бегства героя и разоблачения секты, Кудеяров договаривается с кузнецом Сухоруковым, заманивает Петра в дом купчихи Еропегиной в городе Лихове, где его и убивают. Повесть заканчивается описанием ритуальных похорон главного героя. «Одежду сняли; тело во что-то завёртывали (в рогожу, кажется), и понесли. Женщина с распущенными волосами шла впереди с изображением голубя в руках» [Белый. С.306].
В отличие от фабулы, полностью укладывающейся в жанровую модель повести и далёкой от структуры романа, сюжетное развитие «Серебряного голубя» всецело подчинено мотиву смерти, что обусловливает доминирование танатографического контекста произведения и выводит за пределы обычной повести. Доминирующая роль Танатоса в «Серебряном голубе» создаётся несколькими способами. На трёх из них следует остановиться более подробно.
Во-первых, каскад мотивов, связанных с темой смерти, отчётливо рифмуется с образом Серебряного голубя, появление которого сопровождается рядом предметов, окрашенных в красный цвет. Во-вторых, по мере движения главного героя к гибели пространство всё более сужается, чтобы, наконец, исчезнуть в момент смерти Дарьяльского. При этом исчезновение реального пространства города Лихова и дома Еропегиных сопровождается переходом в новое бесконечное пространство астрального мира. «В эфире Пётр прожил миллиарды лет, он видел всё великолепие, закрытое глазам смертного» [Белый. С.305]. В-третьих, наряду с лицами, оказывающими влияние на ход действия, в «Серебряном голубе» можно обнаружить героев-резонёров, задача которых подтверждать либо опровергать ход мыслей Дарьяльского. К числу таких героев относятся прежде всего Шмидт и Павел Павлович Тодрабе-Граабен. Именно благодаря этим героям-резонёрам вводится тема гибели России, рифмующаяся, как уже было сказано, с гибелью героя.
Мотив смерти является ведущим в «Серебряном голубе». Ему подчиняются все остальные, в том числе и мотив Эроса, варьирующийся то как идеальная любовь к Кате, то как колдовское наваждение Кудеярова к соитию с Матрёной. Вместе с тем Эрос вплоть до финала нигде не заявляется как автономное событие. Он вплетается в плотную ткань повествования в качестве косвенного указания на грядущую гибель и в этом случае соседствует с другими мотивами.
Ещё до появления главного героя читатель знакомится с идиллической картиной села Целебеева, в которую, однако, встраивается мотив гибели в виде случайной песенки: «парни целебеевские пойдут и ах как горланят: “За гааа-даа-ми гоо-дыы праа-хоо-дяят гаа-даа… пааа-гиб яяя маа-аа-ль-чии-ии-шка, паа-гииб наа-всиии-гдааа…”» [Белый. С.35].
Оказавшись в церкви, Пётр видит бабу в красном платке с белыми яблоками над красной ситцевой баской. «Сладкая волна неизъяснимой жути ожгла ему грудь, и уже не чувствовал, что бледнеет; что, белый, как смерть, он едва стоит на ногах» [Белый. С.37]. Выйдя же из церкви, Дарьяльский неожиданно для себя начинает насвистывать мелодию песни о погибшем парнишке.
В главе «В чайной» впервые вводится тема серебряного голубя как грядущей мировой гибели и спасения праведников. «Слушайте, православные, царство Зверя приходит, и только огнём Духовым попалим Зверь сей: братия, будет ходить меж нами красная смерть, и одно спасение – огнь Духов, царство голубиное преуготовляющий нам» [Белый. С.63].
Образ насильственной смерти сопровождает и картину грозы над Целебеевым. «Когда ревмя взревёт чёрная ночь и ежеминутно зажигается небо, упадая на землю душными глыбами облаков, а мраморный гром поварчивает тут, среди нас, будто на самой земле, без дождя, и в стойле успокоенно не фыркает лошадь, – лишь горластый петух не в урочный час распоётся на насесте, и никто не вторит ему, – в Целебееве душно так, страшно так <…> А потом во тьме подкрадётся к тебе раскоряка и защемит, задушит в сухих руках, и найдут тебя поутру повешенным на кусте» [Белый. С.148].
Этот эпизод интересен во многих отношениях. Прежде всего сухие руки раскоряки окажутся руками Сухорукова, убивающими Дарьяльского. Далее, здесь впервые появляется петух, играющий важную роль в танатологическом Эросе повести, ибо по дороге в Лащавино Кудеяров настигает Петра, «там отыскав, на него изрыгает свои столяр слова-пламена: выпорхнув, словно плюхнется о пол, световым петушком обернётся, крыльями забьёт: “кикерикии” – и снопами кровавых искр выпорхнет из окна <…> Хлынул изо рта света поток – порх: красным петушком побежало оно по дороге вдогонку Дарьяльскому» [Белый. С. 234-235]. Наконец, предельно значимым для всей повести оказывается символ куста, описанный в своё время В. Н. Топоровым. «Подлинно заповедное место образа куста – роман “Серебряный голубь”, где само слово встречается десятки раз. В одних случаях повторения, сгущения, форсированные нагнетения образа куста создают тот фон, который действует на подсознание читателя, складывая в нём некую ритмическую смысловую фигуру, лишь позже оформляемую запаздывающим сознанием в лейтмотив символического ряда. В других случаях, прежде всего в ключевых местах романа, образ куста даётся в той остранённости, которая не позволяет читателю пройти мимо него, не поставив им некий акцент в сознании» [Топоров. С.96-97].
По мере развития системы танатографических лейтмотивов усиливается перформативный характер высказываний. Теперь их главная роль не в том, чтобы предсказывать дальнейший ход повествования, но скорее в том, чтобы превратить слово героя в некое актуальное действие. «“Пусть я погибну, – думает Дарьяльский, – если изменю всему голубиному делу”… “Ой ли!” – поддразнивает его голос: знает ли он, что этим словом он к себе подманивает смерть; нет, он не знает; если б узнал, взвыл бы от ужаса, шапку бы схватил да за тридевять земель от села побежал бы» [Белый. С.246].
Наряду со скрипцией «Серебряного голубя», пронизанной танатографическими лейтмотивами, не менее важную роль для утверждения мотива смерти можно проследить, если обратиться к анализу художественного пространства текста. Пространство повести предельно схематизировано и в определённом смысле могло бы служить хрестоматийным образцом, иллюстрирующим бахтинскую теория хронотопа. Большая часть действия сосредоточена в двух пространственно-временных зонах: села Целебеева, которое маркируется повествователем как идиллическое, и имения Гуголева, где проживают Катя с бабушкой. В отличие от Целебеева, устремлённого в грядущее голубиное царство, Гуголево символизирует смерть уходящей России. «Не так ли и ты, старая и умирающая Россия, гордая и в своём величье застывшая, каждодневно, каждочасно, в тысячах канцелярий, присутствий, дворцах и усадьбах совершаешь эти обряды – обряды старины? Но, о вознесенная, – посмотри вокруг и опусти взор: ты поймёшь, что под ногами твоими развёртывается бездна: посмотришь ты и обрушишься в бездну!...» [Белый. С.107].
Однако за танатографическими покрывалами старины обитатели Гуголева отчётливо слышат приговор, идущий из Целебеева, с его песнями, с золотым визгом пичугинской гармошки. «Давно отравляет песнь этот, старыми полный звуками, воздух, расширяя ужасом чёрные баронессины глаза; всё уже давно баронесса узнала; и себя и Россию обрекает она на гибель и роковой борьбы жертву» [Белый. С.110].
Антитеза Целебеева и Гуголева как двух пространственных сфер давно попала в поле филологических исследований. Гораздо меньше внимания комментаторы повести уделяют мотиву дороги, весьма важному в развёртывании танатографических построений «Серебряного голубя». Мотив дороги обрамляет повествование: дорогой начинается повесть и ею же заканчивается в момент прибытия Дарьяльского в финальную точку земного существования. Вместе с тем уже в самом начале устами повествователя подчёркивается особый статус дороги. «Смышлёные люди сказывают, тихо уставясь в бороды, что жили тут испокон веков, а вот провели дорогу, так сами по ней ноги и уходят; валандаются парни, валандаются, подсолнухи лущат, – оно как бы и ничего сперва; ну а потом как махнут по дороге, так и не возвратятся вовсе: вот то-то и оно» [Белый. С.34].
 Дорога оказывается дорогой в никуда, в пустоту космоса. Именно такой видит её Дарьяльский, попадая в город теней Лихов. «День был лазурный, когда он выходил на станцию; день был… – но нет: когда он оттуда стал выходить, дня не было; но ему показалось, что нет и ночи; была как есть тёмная пустота; и даже не было темноты; ничего не было на том месте, где за час до того суетились мещане, шумели деревья» [Белый. С.294].
Дорога оказывается дорогой в никуда, в пустоту космоса. Именно такой видит её Дарьяльский, попадая в город теней Лихов. «День был лазурный, когда он выходил на станцию; день был… – но нет: когда он оттуда стал выходить, дня не было; но ему показалось, что нет и ночи; была как есть тёмная пустота; и даже не было темноты; ничего не было на том месте, где за час до того суетились мещане, шумели деревья» [Белый. С.294].
Символическая функция дороги как момента исчезнувшего времени вполне очевидна для читателя. Но, как представляется, более важна здесь даже не символическая, а текстопорождающая роль мотива дороги. В своё время, говоря о художественном пространстве прозы Гоголя, Ю. М. Лотман разделил героев на две категории: людей поля и людей пути. В «Серебряном голубе» такое деление приобретает абсолютное значение. Все действующие лица повести однозначно существуют в своём поле – и обитатели Гуголева, и серебряные голуби Целебеева. Хотя топографически город Лихов отделён от Целебеева, но благодаря дому Еропегиных – это фактически оккупированная территория, поскольку на неё в полной мере распространяется миропорядок секты Митрия Кудеярова.
В отличие от остальных действующих лиц, единственным героем пути оказывается Дарьяльский. Его биография – это сплошной путь исканий, очарований и разочарований. Здесь важно отметить, что по мере развития повествования от начала к концу происходит отчётливая смена коммуникативной стратегии. Как верно отметила харьковская исследовательница Л. В. Гармаш, повествование в последней главе «ведётся прежде всего с точки зрения недиегетического нарратора, но его позиция и восприятие происходящего в некоторых случаях сближается или полностью совпадает с точкой зрения Дарьяльского… Трагическую ноту вносит отмеченный нарратором диссонанс между внутренним диалогом Петра и Аннушки, ведущей его на место убийства (в отдалённый домик, расположенный в глубине сада) и словами, которые они произносят вслух. Повествователь, рассказывая о герое в третьем лице, тем не менее, употребляет глаголы и наречия, указывающие на то, что информацию о происходящем читатель получает такой, какой она отражается в сознании Дарьяльского: видел, подумал, заметил, Петру казалось, странно, просто, властно и т. п.» [Гармаш. С.71-72].
Как известно, в области сказа Белый отчётливо ориентируется на прозу Гоголя, что подробно было показано в одном из первых монографических исследований творчества писателя. Начало повести, считает К. Мочульский, «даже не подражание, а пастиши: гоголевский насмешливый сказ передан с большим искусством. Стилистический строй “Страшной мести” определяет собой слог “Серебряного голубя”» [Мочульский. С.141].
Следует сказать, что техника изменений диегетических регистров перешла к Белому не от Гоголя, а от Чехова. Если вспомнить «Чёрного монаха» и особенно «Палату №6», легко заметить, как нейтрально-насмешливый тон повествователя по мере усиления танатографических мотивов всё более проникает в сферу сознания героя и практически отождествляется с ним.
Чехов оказался близок Белому прежде всего тем, что герои того и другого, сталкиваясь с полем обывательского сознания, попадают в ситуацию, пограничную между прозрением и безумием, что и приводит в конечном итоге героя к гибели. Как герой пути, Дарьяльский разрывается между мистическим миром предсказаний Шмидта, пессимистическими теориями Павла Павловича Тодрабе-Граабена и колдовскими чарами Кудеярова. Важно, что всякий раз предсказание гибели Дарьяльского сюжетно рифмуется с мотивом гибели России.
Во время астрологического сеанса Шмидта, когда тот предсказывает смерть героя, «Дарьяльский смотрит в окно, а в окне – Россия: белые, серые, красные избы, вырезанные на лугу рубахи и песня; и в красной рубахе через луг к попику плетущийся столяр; и нежное небо, ласковое. Вот обёртывается на прошлое своё Дарьяльский: отворачивается от окна, от в окне его зовущей и погибающей России, от верховного нового владыки его судьбы столяра; и говорит Шмидту:
– Я не верю в судьбу: всё во мне победит творчество жизни…» [Белый. С.183-184].
Важным моментом наррации, формирующей один из главных концептов «Серебряного голубя», становится случайная встреча в лесу Дарьяльского с бароном Тодрабе-Граабеном. Вере главного героя в особую миссию России барон противопоставляет идею панмонголизма. «Россия – монгольская страна; у нас всех – монгольская кровь, не ей удержать нашествие: нам всем предстоит пасть перед богдыханом» [Белый. С.229]. Согласно концепции Павла Павловича, Европа не сможет противостоять новому монгольскому нашествию в силу того, что её культура целиком принадлежит прошлому, а Россия в силу того, что зажата между Европой и Азией, не имеет собственной культуры. В споре Дарьяльского с Тодрабе-Грааабеном сталкиваются две апокалипсические концепции: либо Россия погибнет, либо примет духомётное голубиное слово и тем самым избежит мировой катастрофы. «Здесь промеж себя все пьют вино жизни, вино радости новой – думает Пётр: здесь самый закат не выжимается в книгу: и здесь закат – тайна; много есть на западе книг; много на Руси несказанных слов.. Россия есть то, о что разбивается книга, распыляется знание, да и самая сжигается жизнь; в тот день, когда к России привьётся запад, всемирный его охватит пожар: сгорит всё, что может сгореть, потому что только из пепельной смерти вылетит райская душенька – Жар-Птица» [Белый. С.226].
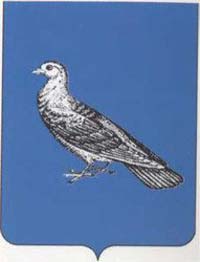 Само крушение идей Дарьяльского и его гибель оказываются, по мысли писателя, прообразом крушения и гибели России. Жар-Птица, о которой грезит герой, превращается в Золотого петушка, тогда как Серебряный голубь принимает роль погребального атрибута. Образ женщины, несущей голубя во время похорон Дарьяльского, завершает танатографический ряд повести.
Само крушение идей Дарьяльского и его гибель оказываются, по мысли писателя, прообразом крушения и гибели России. Жар-Птица, о которой грезит герой, превращается в Золотого петушка, тогда как Серебряный голубь принимает роль погребального атрибута. Образ женщины, несущей голубя во время похорон Дарьяльского, завершает танатографический ряд повести.
В написанном за два года до «Серебряного голубя» стихотворении «Отчаяние» есть такие строки:
Туда, где смертей и болезней
Лихая прошла колея,
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!
Перформативные заклинания, которыми буквально испещрена лирика Белого начиная с 1905 года, превращаются в повести в стройный, логически выверенный танатографический сюжет, вобравший в себя разнообразный опыт работы с мотивом смерти русскими писателями, начиная Пушкиным и заканчивая Чеховым. Замысел повести предполагал движение в сторону большого романа «Путники», которому путём сложных переделок и трансформаций суждено было стать центральным прозаическим произведением Белого – романом «Петербург». В нём танатография получила новый ракурс, расширив масштаб действия и его нарратологические перспективы.
Литература:
Белый А. Серебряный голубь. М., 1990.
Гармаш Л. В. Особенности танатологического нарратива в прозе Андрея Белого //
Лiтература в контекстi культури. Вып. 22(2). Киев, 2012.
Латыйпова Л. Т. Танатологические мотивы в поэзии А. Белого //
Филологические мотивы в России и за рубежом: Материалы международной конференции. СПб., 2012.
Мочульский К. Андрей Белый. Томск, 1997.
Топоров В. Н. «Куст» и «Серебряный голубь» Андрея Белого:
к связи текстов и о предполагаемой внелитературной основе их (глава из исследования) //
http://www.ruthenia.ru/reprint/blok_xii/toporov.pdf
© Юрий Шатин, 2014.
© 45-я параллель, 2014.
