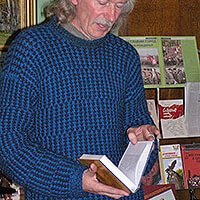Все стихи Виктора Кудрявцева
* * *
«Сука слепая!».
Чёрные буковки,
оставленные фломастером,
проворными муравьями
взбегают
со щеки Дианы Гурцкая
на холодный
алебастровый лоб,
пересекая по пути
оправу очков
с круглыми
бездонными провалами стёкол.
У афишной тумбы,
жалкий и растерянный,
словно нахохлившийся воробышек,
застыл
Чарли Чаплин
с ведёрком клея
в одной руке
и букетом фиалок –
в другой.
* * *
А вечно только зло.
Ну, может быть, разлука.
Опять белым-бело.
На кладбище – ни звука.
На кладбище – покой
(С картины Левитана).
И хлебушек ржаной
Над полыньёй стакана.
* * *
А почему вы думаете,
что мне не знакомы
чувства
изнасилованной женщины,
если четверть века,
изо дня в день,
из месяца в месяц,
насилуют мою совесть,
и уже не помогает
даже
таблетка постинора?!
* * *
Аллею за аллеей,
ограду за оградой,
снимок за снимком
листаю,
чтобы скоротать время,
каменный фотоальбом
незнакомого
деревенского погоста.
Скажите: «Сы-ы-ыр!
Снято!»
Догадывался ли
хоть кто-нибудь
из этих улыбающихся,
напряженно застывших,
кокетливо позирующих людей
о том,
что фотографируется
на будущий
надгробный камень?
* * *
Бесконечность неба.
Неизбежность смерти.
Предательство любви.
С этими мыслями
никогда не будешь
одинок.
* * *
Бессонной ночью,
лежа в постели,
поймал себя на мысли,
что с некоторых пор
стал чутко,
более того – со страхом
прислушиваться
к незнакомым шагам
на лестнице.
Мало ли кто
может пожаловать в гости.
Ладно,
если Свидетели Иеговы
или очередные погорельцы.
А вдруг – прекрасная панночка
со своею свитой...
А у меня
и мела-то нет
под рукой.
* * *
Бросишь несколько монеток
в футляр
уличного музыканта,
опустишь
в протянутую старухину ладонь
тёплый,
заранее приготовленный рубль,
и против твоей воли,
нет-нет,
да и шевельнётся в голове
гаденькая мысль о том,
какой ты праведный,
милосердный,
хороший…
И так станет противно,
так стыдно,
что долго ещё идёшь по улице,
поминутно оглядываясь по сторонам –
не видел ли кто
твоего барственного,
а на самом деле
холопского жеста,
не крадется ли следом
тень девчушки
с широко распахнутыми
голодными глазёнками,
которой ты только что
так самодовольно
купил пару пирожных.
Шалишь, брат,
не откупишься!..
* * *
Варварский обычай –
оставлять себе место
рядом с умершими родными,
а потом
долгие годы,
приходя на кладбище,
тупо пялиться
на жалкий клочок
хранимой для тебя земли.
Чтобы в конце концов
сгореть в небе Иркутска
или сдохнуть
от банального поноса
на грязной
завшивленной циновке
земляной тюрьмы
за тысячи километров
от родительского дома.
* * *
Ведь это ты, скажи мне, мама,
Приходишь каждый раз к шести?
И всё зовёшь меня упрямо:
«Сыночек, Витенька! Впусти!..»
А мне – не вымолвить ни звука.
(На мокром скошенном лугу
Стою, схватив тебя за руку,
И всё проснуться не могу.)
Ну вот опять: «Сыночек, Витя!..»
А мне и губ не разлепить, –
В удавке пуповинной нити
Решаю: «Быть или не быть?» –
Ни там ни здесь, а где-то между
Судьбы, зажатой в кулаке...
И голос, потеряв надежду,
В рассветном тает далеке.
* * *
Ветер собирает листья в стаю,
Нанизав на шёлковую нить.
Вы меня не любите, я знаю, –
Разве можно мёртвого любить?
Сиротеют ясени и клёны,
Растеряв по свету дочерей.
Бесконечный, медленный, солёный
Льётся дождь по мордам фонарей.
И скулит, скулит в ночи калитка,
Звякает какая-то херня.
Мраморная тихая улитка
Доползёт к утру и до меня.
Время
Оно явилось ниоткуда:
Не объяснить и не понять,
Такое же Господне чудо,
Как грудь, что выпростала мать
Из пёстрой кофты возле зыбки...
Потом тихонечко пошло,
Ещё совсем несмело, хлипко,
Во двор, а позже – за село.
За годом год, за датой дата
Бежало, с каждым днём быстрей,
Как обречённые солдаты
На рёв голодных батарей.
Порой стояло истуканом,
До боли закусив губу,
Порой, пошарив по карманам,
Роптало глухо на судьбу.
А в этот раз его не стало:
Одеждой белою дразня,
Оно у койки потопталось,
Потом исчезло... Без меня.
* * *
Гладил кота за ухом,
кормил с ладони синичек,
ласково беседовал с кактусом
на подоконнике.
Вымаливал прощение
за предательство
любимой женщины.
* * *
Год за годом смотрю бесконечную фильму
В переплёте экрана, изъеденном гнилью,
Хоть пейзажи знакомы, герои известны
И поп-корном давиться, увы, неуместно...
Ведь бывают порой повороты в сюжете:
То потащат куда-то с венком дядю Петю,
То средь ясного дня громыхнёт как из пушки,
Растеряет девчонка свои конопушки,
Улыбаясь светло сквозь жемчужные нити
В пыльный маленький зал, где единственный зритель
Смотрит вниз, не дыша, обернувшийся в кокон...
Я бы «Оскара» дал всем создателям окон.
* * *
Ещё на эскалаторе,
спускаясь в чрево московской подземки,
слышу
нежное всхлипывание саксофона,
страстную,
отчаянную мольбу трубы.
Знакомая мелодия
из «Крёстного отца»
ширится, крепнет,
заполняет собой
длинные гулкие коридоры метро.
Ещё один поворот,
и можно будет опустить
в чёрный раскрытый футляр
горсть монет,
благодарно кивнуть музыкантам.
…О, чёрт!
Заслушавшись,
едва не влетаю с разбега
в огромный,
на седьмом месяце
живот.
Молоденькая. Светловолосая.
Стоит,
прижавшись спиной к мраморной колонне.
Большущие влажные глаза.
Припухлые губы.
На красивой,
мучительно изогнутой шее,
совсем как у Зои Космодемьянской,
идущей на виселицу, –
самодельный плакат.
Крупные неровные буквы:
«Помогите, ради Христа,
на жизнь».
Бесконечный людской поток
уверенно,
словно океан
крохотное островное государство,
обтекает
и юную мадонну,
и её живот,
и дремлющего в нём ребёнка.
Оркестрик остаётся где-то справа,
похоже,
в другом переходе,
Труба рыдает.
Саксофон вкрадчиво,
только ей одной,
нашёптывает
слова вечной любви.
* * *
Жалкие остовы
новогодних ёлок
у мусорного бака:
высохшие,
полуголые,
облепленные клочками ваты,
обрывками фольги и серпантина.
Дешёвые
публичные девки!
Красавицы!
* * *
Женщина
под большим чёрным зонтом.
Она уже пятый раз
медленно
проходит под моими окнами:
видимо, ожидает кого-то.
Дождь, между тем,
всё усиливается.
Тяжёлые,
набухшие вешней влагою тучи
непрерывной чередой
выплывают
из-за козырька крыши.
Однако женщина не уходит,
отрешённо,
не поднимая головы,
продолжает шагать
по мокрому асфальту.
Интересно,
какая она:
молодая?
красивая?
А может,
это просто вздорная,
истеричная бабёнка
выслеживает
неверного супруга?
Со стуком распахиваю форточку,
стараясь привлечь к себе внимание.
Внизу,
подставив под ливень
детское
испуганное личико,
стоит моя любовь,
навсегда унесённая
попутным
чернобыльским ветром.
* * *
Забываем полить цветы на подоконнике.
И те умирают.
Забываем телефонные номера любимых женщин.
И те стареют,
отражаясь в седине зеркал.
Забываем поздравить с днём рождения матерей.
И те долго перебирают
наши детские фотографии.
Всю жизнь помним, что дважды два – четыре.
И гордимся собой.
* * *
Как её только не называют:
Земля,
«голубая планета»,
наш общий дом…
А это
всего-навсего
огромное –
от полюса
до полюса –
кладбище,
чёрствый
несъедобный колобок,
скатанный
из дерьма, крови,
костей и шерсти
многих сотен поколений.
… Я от бабушки ушёл,
я от дедушки ушёл,
а от тебя, колобок,
никуда не уйти!
* * *
Как, вероятно,
смешна Господу
вся наша мышиная возня,
все наши страсти и страстишки,
великие подвиги
и низкие предательства.
Спросите об этом у птиц,
рыб,
насекомых…
Или их боль
ничтожнее нашей,
их слёзы
слаще человеческих?
Иной раз,
сидя на садовой скамейке,
не со зла,
просто от нечего делать,
хорошенько прицелишься,
да и уронишь плевок
на муравьиную тропу.
То-то суматоха,
то-то трагедия!..
Вот вам
И весь Перл-Харбор
с «Титаником»
в придачу.
* * *
Когда из зеркала глядит
Какой-то сукин сын помятый,
Когда на третий едет лифт,
А поднимается на пятый,
Когда скулит бездомный пёс,
Чья шерсть нежнее женской ласки,
Когда совсем простой вопрос
Не понимаешь без подсказки,
Когда застиранный платок
С утра марают пятна крови,
Когда читаешь между строк
Поклонницы вчерашней: «Sorry»,
Когда уходят все друзья,
Которых, впрочем, два, не больше,
Когда разбросана семья
От Ахерона и до Польши,
Когда встаёт на шаткий стул
Сосед, завравшийся супруге,
Когда потусторонний гул
Звучит хоралом из фрамуги,
Когда седой, как лунь, старик
Лежит в цветах 8 мая,
Когда срывается на крик
В соборе нищенка немая,
Когда нездешний холодок
Всё чаще прячется за ворот,
Когда снарядами Восток,
Как в морге юный труп, распорот,
Когда сигналят поезда,
Что никогда не возвратятся,
Когда в ночи стоит звезда,
Которой некуда сорваться…
* * *
Когда целуют ливни
Холодных стёкол дым,
Плывёт мотив Беллини
По улицам седым.
По обветшалым стенам,
Наличников резьбе,
По утомлённым венам,
По горестной судьбе.
Шумят воды потоки
Сквозь пальцы Божьих рук
И отмеряют сроки
И радостей, и мук.
И гасят свет в квартире,
Сумятицу – в сердцах.
Лишь пенье Музы в мире,
Что августом пропах.
Цыганкой черноокой
Берёт в желанный плен,
С души смывает копоть,
Как с окон пыльный тлен.
И пусть разлуки ветер
Нам изменить горазд,
Есть музыка на свете,
Она нас не предаст.
* * *
Кресты.
Реже – звёздочки.
Очередная ограда
с жирной
бесцеремонной крапивой,
лебедой по пояс,
сквозь которую
едва виднеется
убогий кладбищенский слоган:
«По..им,
люб.м,
с..рб.м».
* * *
Кто ею только разродился,
этой обидной,
ублюдочной аббревиатурой
ВОВ,
которой пестрят
не только многие
присутственные места
и официальные бумаги,
но даже
обелиски павших.
Надо полагать, тот,
кто сам никогда
на фронте не был
и даже пороха не нюхал.
Уж на что бюрократами
называли царских чиновников,
а и те
не додумались
именовать
героев «Варяга» и Порт-Артура
участниками РЯВ,
экономя на чернилах
и бронзовой краске.
* * *
Лавочка
на южной стороне тихого
деревенского погоста,
на которой мы сидели
четверть века назад,
рассыпалась в прах,
смешалась с травой,
сухими ветками,
жёлтым кладбищенским песком…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мы и не поняли,
как забрели под эти берёзы,
утонувшие
по самые щиколотки
в пёстрой листвяной карусели.
Было тепло и солнечно.
В сентябрьском воздухе
сладко пахло
дымом костров,
свежеиспечённой картошкой,
соломой с окрестных полей.
Тонкие липкие паутины
цеплялись за стерню,
путались в волосах,
щекотали наши лица.
Было нисколько не страшно
обнимать твои крепкие
загорелые плечи
среди крестов
и расколотых,
обвитых мощными корнями,
плит.
Страшнее было другое:
твои мягкие,
обычно такие тёплые
губы
в этот раз
оставались холодными,
как жестяной,
звякающий рядом с нами
венок.
Не говоря ни слова,
ты откинулась к стволу берёзы
и медленными
негнущимися пальцами
расстегнула кофточку…
Три недели спустя
лил дождь,
и какой-то счастливый дуралей
уносил тебя на руках
по тяжёлой,
раскисшей от влаги улице
к веренице свадебных машин.
* * *
Маленькая
зелёная лягушка
плакала
среди высокой колючей стерни,
словно потерявшийся в толчее вокзала
ребёнок.
В глубокой
округлой ранке на её голове,
оставленной острым жалом косы,
кишели проворные
белые черви.
Похоже, лягушка понимала,
что помощи ей ждать больше неоткуда,
поэтому
даже не пыталась упрыгать,
а может,
просто выбилась из сил
на этом шершавом
бесконечном лугу.
Преодолевая страх и отвращение,
я попытался
кончиком сорванного стебля тимофеевки
выковырять мерзких,
прогрызающих её череп
тварей.
Как отчаянно она заверещала,
как ей было больно, –
испуганному
холодному комочку!
Я не смог,
не смог ей помочь.
Сдерживая приступы тошноты,
трусливо убежал на другой конец деревни…
Господи!
Почему ты не убил тогда
нас обоих?!
* * *
Мало того,
что в собственной стране
и поём,
и говорим,
и пишем
на скверном
чужеземном языке,
так теперь ещё
и восхищаться стали
не по-русски –
вау! –
любой
несусветной глупостью.
А русский мужик
построит,
бывало,
голыми руками
собор белокаменный
или другое какое
диво дивное,
почешет удивлённо
лохматую головушку:
«Лепота-а-а!»,
да и сиганёт
с колокольни
на самодельных крыльях.
* * *
Все умерли: Татьяна и Наташа...
Г. Шенгели
Мне было 30 лет, когда впервые
прочёл стихи курчавого поэта,
которого, шутя, не раз дразнили
то Пушкиным, то правнуком арапа.
...Страна ещё спала в глухой берлоге –
от Кунашира до могилы Канта –
не слыша свиста полуночных татей,
гордясь во сне величием былым.
А между тем тяжёлый смутный ропот
уж поднимался коброю с окраин,
из капюшона холодом зловещим
грозил Империи раздвоенный язык.
...Три года бегства: всех и отовсюду,
три года крови, лжи, надежд и боли,
такой кромешной, что вода, замёрзнув,
из крана харкала багровою слюной,
пока под улюлюканье делили
поспешно освежёванное тело,
и клавиши распитого «Рояля»
мозг выносили песенкой блатной.
А дальше... никакого, впрочем, дальше.
Могилами отмеченные годы
меняли равнодушно только цифры
календарей с грудастой Си Си Кетч,
или Самантой Фокс, уже не помню...
А помню душный гроб мальчишки Коли,
откуда-то из Кушки привезённый
(запаянный, свинцом налитый, гроб),
и мать его с безумными глазами,
в которых стыло небо Палестины,
и соль Голгофы, пемзою шершавой
мерцавшую на гипсовом лице...
Несчастный мальчик! Всё твоё наследство:
земля сырая, цинковое небо,
две ели голубые в изголовье
(их для потехи срежут в Новый год).
...Но почему же становилось меньше
меня и ускользающего мира:
в огромную ревущую воронку
из ветхого мешка слепой Судьбы
шары летели, белые панамки,
сладкоголосый Руссос на кассетах,
и яблони родительского сада,
и вермут, и Саган, и брюки-клёш,
и письма, те, что так и не отправил,
смешные, как глаза смешной девчонки,
сгоревшей с мужем в запертой «ГАЗели»,
набитой сумками таких же «челноков»,
и робкие рассветы, с каждым годом
похожие всё чаще на закаты,
и те, немногие (обиженные мною),
кого по-настоящему любил...
Все умерли: Наташа, Вера, Таня...
Как мне теперь просить у них прощенья,
как прошептать солёными губами,
«что жить они мне больше не дают»?..
* * *
Моя тайная,
запертая в полутёмной спальне
икона –
подмигивающая,
пышногрудая блондинка
с обёртки немецких вафель,
подаренных
вернувшимся из армии
дядей Петей.
Стоило поднять
тяжёлую крышку сундука,
с наклеенными
на внутренней стороне
фантиками,
как она
кокетливо улыбалась,
манила к себе
полными
вишнёвыми губами,
тёплой
глубокой ложбинкой
в вырезе платья.
От сундука пахло
сладкой,
щекочущей ноздри
гнилью
усталого дерева,
свежим,
до голубизны промёрзшим
бельём,
тихо увядающей
маминой молодостью.
Хотя запах нафталина
от её старомодных,
почти ненадёванных нарядов
был ещё
не так безжалостен,
и ещё не появился
на самом дне сундука
небольшой,
начинённый страхом
узелок.
* * *
Надеялись – всё впереди,
Затем искали на погосте
Местечко, чтоб нагрянуть в гости.
Вдох-выдох – и конец пути...
Я бестолково жил, как все,
Года транжирил, как минуты,
Российским бытом стебанутый,
Шустрил как белка в колесе...
В ночи кричали поезда,
А над шестою частью суши
Всё безнадежнее, всё глуше
Мерцала поздняя звезда...
Манящей бездны на краю
Помедлимте ещё немного:
Пусть в Ад приводят все дороги,
Но с пересадкою в Раю.
* * *
«Настенька, тростинка, недотрога...»
Панцирных кроватей длинный ряд.
К дому бесконечную дорогу
Заметает жёлтый листопад.
Глухи доктора, крепки затворы.
Боль, – не пожелаешь и врагу:
Серые прожорливые воры
До утра копаются в мозгу.
В жёлтом доме жёлтые обои.
За спиной – крест накрест – рукава.
Тёмные глазницы вспухли гноем:
«Сколько можно корчить дурака?
Экая несносная персона! –
Бязевый сосед впадает в раж, –
Фёдору Михалычу резона
Не было писать такую блажь», –
Дядя Ваня хищно скалит зубы,
Дядя Ваня здесь который год...
Князю Мышкину намёки эти грубы.
Ночь настанет, – он его убьёт.
* * *
Ночь.
Полупустой вагон дизель-поезда.
Пассажиры,
кто как может,
коротают долгий путь.
Вертлявый золотушный ребёнок
на соседней скамье
непрестанно заводит в музыкальной игрушке
одну и ту же
навязчивую мелодию.
Уже спустя четверть часа
хочется удавить и композитора,
и эту шлюху Элизию,
и, конечно же,
маленького сопливого выродка,
хвастливо сующего
под нос дремлющих попутчиков
свое копеечное сокровище.
Однако
на прозрачном слабоумном личике
написан такой восторг,
такая гордость
за прикорнувшую в углу вагона
пьяную мать
и её жалкий подарок,
что даже самые чёрствые из пассажиров
теплеют сердцем.
Бухой,
изрядно помятый прапорщик
наклоняется к мальчугану:
– А «Полонез» Огинского
можешь?..
Памяти Тани
1
Она придёт глухою ночью,
А может быть, при свете дня, –
Тревогой, новостью сорочьей,
Фантомной болью, многоточьем,
Золой потухшего огня...
Она придёт просёлком белым,
Или тревожа листьев медь,
Дрожа чужим холодным телом,
Как в первый раз, таким несмелым...
Чтобы в глаза мне посмотреть.
2
То ли попросить о чём хотела,
То ли попрощаться навсегда...
Бабочка на руку мне присела –
Хрупкая, прозрачная слюда.
...Лугом путь до кладбища короче
(А пройти мечталось длинный путь).
Крохотный доверчивый комочек
Я не смел нечаянно спугнуть.
...Лепетали за оградой листья,
Собирались тучи вдалеке.
Как она пыталась объясниться
На своём нездешнем языке!
Поднималась по одежде выше,
Крылышками бойко хлопоча.
(Девочка, прости, что не расслышал
Слов твоих под лезвием луча.)
Тыкалась то в губы, то в ресницы
Из последних мятлушкиных сил.
(Пусть ещё хоть чуточку продлится
День девятый, – Бога я просил.)
Только Он под небом оробелым
Поднял ветер, травы вороша,
И она снялась и полетела –
Танина озябшая душа.
3
Смеркается... Бездомный Новый год
Уже маячит зябко за погостом.
Горбатый крест цветущею коростой
Напоминает: всё, увы, течёт...
Сгребает ветер фантики конфет,
Пожухлые гвоздики, хризантемы...
А снега нет... Пустые дали немы,
Как год назад, как много сотен лет.
У холмика – то там, то тут – следы:
Тоскливые, забытые, собачьи.
А я-то думал, кто там тихо плачет,
К ограде притулившись, у ветлы?
И вот бежит и руки лижет мне
(Они ещё хранят хозяйкин запах),
Кладёт на грудь доверчивые лапы:
Не уходи, не оставляй нас, не...
Шуршанье шин. Последний поворот.
И пёс бежит, не отставая, следом.
И землю укрывает белым пледом
Счастливый для кого-то Новый год.
31. XII. 2019, д. Баботки
* * *
Первый крик
родившегося ребёнка.
Первое прикосновение
к супружеской плоти.
Первая горсть земли
о крышку гроба.
Первые зелёные травинки
на могильном холмике.
Как ты щедр,
Господи!
* * *
Первый раз
поцеловал руку матери.
В гробу.
Перед тем,
как застучали проворные молотки.
Да и то от страха,
что придётся целовать высохший
восковой лоб.
Всю обратную дорогу
трусливо вытирал платком губы,
отвернув к окну серое
бескровное лицо.
Вечером,
едва дождавшись ухода родственников,
бросился в ванную,
долго чистил зубы,
то и дело сплёвывая
в клокочущую воронку
остатки своего страха,
брезгливости,
стыда…
Мать смотрела
на склонённую под ней
лысеющую голову сына,
жалкие, обмякшие плечи
и была счастлива:
третий,
самый трудный для её мальчика день
закончился.
Пишу, наверно, для немногих:
Старушек нескольких убогих,
Изголодавшейся вдовы,
Переходящей с «ты» на «вы»,
Монашки, девочки-подростка,
Астматика прозрачней воска,
Убийцы с мягкою рукой...
Да синевы над головой,
Да поля русского, нагого,
Да долгожданного улова
Звезды в студёной полынье.
(Она ведь помнит обо мне?..)
* * *
Прежде, чем она оказалась на свалке,
тёмная, испачканная,
с грубо содранным окладом, –
ей довелось услышать
не одну кроткую молитву;
пережить разор и смуту,
когда
под рёв обезумевшей толпы
падали в заплёванный снег
онемевшие колокола;
хорониться от сапога оккупанта
в сырой,
пропахшей горем землянке,
врачуя живых,
давая надежду мёртвым.
Потом были
годы и годы рабского труда,
безрадостное вдовство,
болезни…
И крест.
Грубый деревянный крест
на давно полюбившемся погосте.
Новые хозяева старухиной избы
начали ставить на чёрную доску
вёдра с водой,
резать на ней бураки для скота,
а потом и вовсе
сгребли в одну кучу с мусором
и отвезли на свалку.
Там она и лежала,
пока нищий оборванец
не провёл случайно по слою копоти
заскорузлой ладонью,
и на него не взглянул
Божественный Лик –
мудрый
и всепрощающий.
* * *
Свечой грошовой догорает Русь,
Куда не взглянешь, – всюду пепелище.
По пустырям огонь голодный рыщет,
Стращая смердов: «Скоро я вернусь,
Вернусь войной, разором, мятежом,
Весенним палом, Костромой гулящей
И беспощадным красным петухом,
Что только притворился мирно спящим...»
* * *
Синицы пропали. И люди пропали.
И белые груди к окошку припали.
И в комнате стало темно и уютно.
Я помню тот день за минутой минуту.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Синицы пропали. И люди пропали.
Тонули в сугробах молочные дали.
И мальчик в худом, затрапезном пальтишке
Прижался к олешине зябкою мышкой.
Синицы пропали. И люди пропали.
И к вечеру буря утихнет едва ли.
И мальчик бежит, под горою помешкав,
На зыбкую точку – по вешкам, по вешкам.
Синицы пропали. И люди пропали.
Сначала, прижавшись друг к другу, молчали,
Потом – растирали ладони до хруста,
Смеялись. И пахло волнительно-вкусным...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Синицы пропали. И люди пропали.
Как холодно маме в её одеяле.
Укрой же, Господь, сиротливость ночлега
Спасительным, чистым Рождественским снегом.
* * *
Снег в полях
такой белый,
такой тихий и застенчивый,
что приходится нести плевок
до самого города.
* * *
Старая любимая табуретка с облупившейся голубой краской. Я узнаю тебя с закрытыми глазами, стоит лишь провести ладонью по звонким, гладко отполированным дощечкам, нащупать на тыльной стороне крышки шершавый сучок, величиной с двухкопеечную монету.
… Когда в доме пахло свежим снегом, хвоей и розовым «барбарисом», меня ставили на табурет, подбадривали, – не бойся, сынок, читай, – и я в который раз, с трудом сдерживая слёзы, рассказывал о печальном конце ёлочки, не понимая, почему все веселятся вокруг и хлопают в ладоши…
…Когда в густых, тёплых сумерках начинал тарахтеть движок, а из растворённых дверей нищего деревенского клуба доносились первые бравурные звуки киножурнала «Наш край», я бежал вместе с другими пацанами в маленький пыльный зальчик, прижимая к груди голубую табуретку – своё законное, никем не занятое место…
…Когда ранним майским утром я уходил из родительского дома на службу, мама, по старому русскому обычаю, предложила присесть на дорожку, пододвинув всё ту же любимую мной табуретку. Я стыдливо целовал совсем уже седые волосы, стараясь быть взрослым, хотя слёзы так и норовили побежать по щекам…
…Когда шумным захмелевшим гостям надоело кричать: «Горько!», а все тосты и напутствия были напрочь позабыты, мужчины подхватывали мою сухонькую, страшно уставшую от всей этой суматохи маму и начинали её «славить» – подбрасывать вместе с табуретом к самому потолку…
…Когда маленький розовый человечек требовал купаться, я ставил на голубую табуретку эмалированный тазик с водой и медленно окунал в него драгоценную ношу, осторожно поддерживая левой ладонью беленькую пушистую головку…
А потом я предал своего старого друга, купив уютные мягкие стулья с изогнутой спинкой. Они и сейчас стоят в моей холостяцкой, покинутой всеми квартире.
Заходя иногда в сырую, завешенную паутиной веранду, глядя на груду ветхого хлама в углу, я, со ставшей уже привычной безысходностью, думаю о том дне, когда одинокий и усталый прилягу отдохнуть перед дальней дорогой в сосновую, пахнущую свежей смолистой стружкой домовину, а под голову мне поставят старую рассохшуюся табуретку, такую же голубую, как небо над моими уже незрячими глазами.
* * *
Тихое небо над тихою речкой.
Дремлют стога на росистом лугу.
Облако мается глупой овечкой,
Ищет приюта на том берегу.
Том берегу, где дырявые лодки,
Том берегу, где стеною камыш,
Том берегу, где в отцовской пилотке
Ты молодой, неубитый стоишь.
* * *
Тлел закат сиреневый
В поле за бараками.
Соловьиным пением
На погосте Ржакином
Нас пугали сызмала.
(Наплывали сумерки.)
Каждый знал, что выйдут, мол,
На охоту жмурики...
И лишь бабка Толика
Как-то раз заплакала:
«Нет, мои соколики, –
Я видала всякого, –
Но из этой ямины
Никому не вылезти.
Соням, Раям, Хаимам
Никогда не вырасти.
...Ров дышал и пучился
Розовою пеною.
Гнали их, замученных,
Бесконечной сменою.
Полицаи бравые,
Наши все, советские,
Сапоги кровавые
Очищали веткою...»
(Вышли звёзды на небо
Боязно, застенчиво.)
«...Говорить не надо бы
Мне об этом, птенчики...»
* * *
То и дело бежит к зеркалу,
переживает,
и так и этак, оглаживая
новенькую,
ещё вчера приготовленную
школьную форму,
нетерпеливо топая ножками,
захлёбываясь словами,
в предвкушении
долгожданного праздника.
– Мама,
а складочку на фартуке
ты не забыла разутюжить?
А бант,
бант красиво повязан?
– По-моему,
он самый нарядный
во всём Беслане.
– Да-а, мамочка!
А у Дианы, зато,
букет цветов больше моего…
– Всё хорошо,
моя радость.
И букет у тебя –
просто замечательный.
– А я, правда, буду
самой красивой на линейке?
– Ну, конечно,
вот только если мы
немножко поторопимся.
Нехорошо опаздывать в школу
1 сентября.
Ведь этот день,
доченька,
ты запомнишь
на всю жизнь.
* * *
Торопливо собираясь в баню,
обнаружил,
что в платяном шкафу
не осталось
ни одной свежей сорочки.
(Нудные холостяцкие заботы:
стирка,
готовка,
то да сё –
это, знаете,
не фунт изюма.)
Наконец,
на нижней полке,
под изъеденными молью,
так ни разу и не повешенными
на окна
гардинами,
обнаружил свадебную
старомодного фасона
рубашку.
С правой стороны
на белоснежном воротничке
отпечатался
в виде лежащей восьмёрки
контур припухлых
тёмно-вишнёвых губ.
– Знак бесконечности, –
смущённо улыбнулась тогда
моя заплаканная,
пять минут как законная
жена,
конечно же,
имея в виду
нашу долгую
счастливую жизнь.
Если она и ошиблась,
то самую малость,
потому что
бесконечность разлуки –
состояние
куда более сильное,
а главное –
постоянное.
* * *
Уже не знаю,
как насчёт страны в целом,
но в советской литературе
секса не было точно.
Преобладала
платоническая любовь к Родине,
партии,
на худой конец,
законной жене.
Дети
в результате непорочного зачатия
рождались здоровыми,
умными,
ещё в утробе матери
воспитанными на примерах
Тимура
и Павки Корчагина.
А им, повзрослев,
так хотелось узнать
страшную тайну,
задрав повыше подол
прекрасной Анжелики
или госпожи Бовари.
Особой популярностью в библиотеках
пользовались книги
с подчёркнутыми,
замусолёнными
любопытными пальцами знатоков
местами.
И чем больше было отмечено
скабрезных строк,
чем жарче обласкали их
шаловливые подростковые ручки,
тем востребованнее
становился автор.
Золотоискатели альковных грехов,
Шерлоки Холмсы сеновалов
и скрипучих
гостиничных матрацев!
Методом тыка,
набивая карманы
запретными плодами
чужих садов,
мы открывали для себя
настоящую,
живую,
из крови и плоти,
литературу.
Пройдет много лет,
и я так же,
как полковник Аурелиано Буэндиа,
стоявший у стены
в ожидании расстрела,
вспомню тот далёкий
летний вечер,
когда лежал,
очарованный,
на тёплой крыше
отцовского дома
и,
уже не обращая внимания
на фаллические восклицательные знаки
на полях романа,
погружался в пёстрый
гипнотический водоворот
«Ста лет одиночества».
* * *
Хорошая вещь сотовый,
удобная.
В любой момент
можно поговорить
с нужным человеком,
где бы он ни находился,
«забить стрелку»,
скачать популярную мелодию…
И всё-таки
что-то не дает
до конца примириться
с мобильной связью,
заставляет
с жалостью смотреть
на свихнувшихся,
без умолку болтающих
людей.
Пожалуй,
я даже понимаю,
почему это происходит:
исчезла тайна,
прекрасная
томительная недосказанность,
счастье и боль ожидания.
Что сталось бы
с мировой культурой,
с героями величайших
человеческих драм,
окажись «сотики»,
например,
у Одиссея и Пенелопы?
А разве волновала бы нас
по сей день
история
беспримерной любви и верности
юной Кончиты Аргуэльо,
имей она возможность
ежеминутно
посылать графу Николаю Резанову
эсэмэски?
Наверное,
никогда бы не было
и щемящей,
пронзительной сцены
проводов на фронт
в фильме «Летят журавли»,
дозвонись тогда Вероника
до своего
уходящего в вечность
любимого…
Сотовые появились,
когда люди стали
повсеместно разговаривать
на примитивном
пещерном языке,
когда исчезли большие чувства,
а тех, что остались,
вполне достаточно,
чтобы предложить перепихнуться,
но явно маловато,
чтобы на всю жизнь
запомнить
запах любимых волос.
* * *
Четвёртый раз проходит
Под окнами старик:
Сутулый. Трезвый, вроде.
Индюшечий кадык.
Обветренные скулы.
Сухой пергамент щёк.
Что я привстал со стула,
Ему и невдомёк.
Он шаркает ногами,
Он загребает снег.
Не усидел в бедламе?
Иль потерял ночлег?
С какой-то тихой думой
Скрываясь за углом,
Старик молчит угрюмо,
Ему общаться влом.
...Снежинок бойких улей.
Вечерних улиц медь.
А мне уже на стуле,
Боюсь, не усидеть.
Появится ль? во сколько?
Старик из-за угла.
(Не раздавить бы только
Холодного стекла.)
...И, шаркая сторожко,
Торя свою межу,
Под тёмное окошко
Опять я выхожу.
* * *
Что может быть жальче, несчастнее
маленького,
плачущего ребёнка?
Только такой же маленький,
жалобно мяукающий котёнок,
бегущий следом
на тонких
дрожащих лапах.
* * *
Якушкино. Минькина гора.
Гладкино и Шестаково поле.
Детства беззаботная пора.
Жаркая лапта на косогоре.
Песни баб тягучие, как мёд,
Аромат антоновки и мяты,
Ласточек неудержимый лёт
Над стрехою материнской хаты.
Тёплая полуденная пыль
Разомлевших безымянных улиц,
Дяди Коли стоптанный костыль –
Пьяная гроза соседских куриц.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Было. Сплыло. Ни людей, ни хат.
Время образцовой обезлички.
Горькою усмешкою звучат
На руинах свежие таблички:
Школьная, Садовая, Труда,
Зерновая, Выгонная, Счастья...
Кланяется в пояс лебеда,
Следом иван-чай кивает: «Здрасьте!..»
У плетня – консилиум старух:
«Всё ль разворовали, оглоеды?»
...Накрывает лёгкий смертный пух,
Как простынкой, улицу Победы.
* * *
… что мы тогда понимали,
повторяя
вслед за учительницей
страшные
кровожадные строки:
«И как один умрём
в борьбе за это…», –
семи-десятилетние
мальчишки и девчонки
малокомплектной
деревенской школы
(«На Дону и в Замостье
тлеют белые кости…»),
вместо
песен о маме,
о солнце,
о весёлом тёплом лете
(«След кровавый стелется
по сырой траве»),
всё долбившие
и долбившие
на пятидесятом году
Советской власти:
«Кровью народной залитые троны,
кровью мы наших врагов обагрим…»
И захлебнулись!..