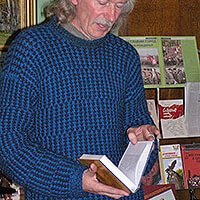Памяти Тани
1
Она придёт глухою ночью,
А может быть, при свете дня, –
Тревогой, новостью сорочьей,
Фантомной болью, многоточьем,
Золой потухшего огня...
Она придёт просёлком белым,
Или тревожа листьев медь,
Дрожа чужим холодным телом,
Как в первый раз, таким несмелым...
Чтобы в глаза мне посмотреть.
2
То ли попросить о чём хотела,
То ли попрощаться навсегда...
Бабочка на руку мне присела –
Хрупкая, прозрачная слюда.
...Лугом путь до кладбища короче
(А пройти мечталось длинный путь).
Крохотный доверчивый комочек
Я не смел нечаянно спугнуть.
...Лепетали за оградой листья,
Собирались тучи вдалеке.
Как она пыталась объясниться
На своём нездешнем языке!
Поднималась по одежде выше,
Крылышками бойко хлопоча.
(Девочка, прости, что не расслышал
Слов твоих под лезвием луча.)
Тыкалась то в губы, то в ресницы
Из последних мятлушкиных сил.
(Пусть ещё хоть чуточку продлится
День девятый, – Бога я просил.)
Только Он под небом оробелым
Поднял ветер, травы вороша,
И она снялась и полетела –
Танина озябшая душа.
3
Смеркается... Бездомный Новый год
Уже маячит зябко за погостом.
Горбатый крест цветущею коростой
Напоминает: всё, увы, течёт...
Сгребает ветер фантики конфет,
Пожухлые гвоздики, хризантемы...
А снега нет... Пустые дали немы,
Как год назад, как много сотен лет.
У холмика – то там, то тут – следы:
Тоскливые, забытые, собачьи.
А я-то думал, кто там тихо плачет,
К ограде притулившись, у ветлы?
И вот бежит и руки лижет мне
(Они ещё хранят хозяйкин запах),
Кладёт на грудь доверчивые лапы:
Не уходи, не оставляй нас, не...
Шуршанье шин. Последний поворот.
И пёс бежит, не отставая, следом.
И землю укрывает белым пледом
Счастливый для кого-то Новый год.
31. XII. 2019, д. Баботки
* * *
Все умерли: Татьяна и Наташа...
Г. Шенгели
Мне было 30 лет, когда впервые
прочёл стихи курчавого поэта,
которого, шутя, не раз дразнили
то Пушкиным, то правнуком арапа.
...Страна ещё спала в глухой берлоге –
от Кунашира до могилы Канта –
не слыша свиста полуночных татей,
гордясь во сне величием былым.
А между тем тяжёлый смутный ропот
уж поднимался коброю с окраин,
из капюшона холодом зловещим
грозил Империи раздвоенный язык.
...Три года бегства: всех и отовсюду,
три года крови, лжи, надежд и боли,
такой кромешной, что вода, замёрзнув,
из крана харкала багровою слюной,
пока под улюлюканье делили
поспешно освежёванное тело,
и клавиши распитого «Рояля»
мозг выносили песенкой блатной.
А дальше... никакого, впрочем, дальше.
Могилами отмеченные годы
меняли равнодушно только цифры
календарей с грудастой Си Си Кетч,
или Самантой Фокс, уже не помню...
А помню душный гроб мальчишки Коли,
откуда-то из Кушки привезённый
(запаянный, свинцом налитый, гроб),
и мать его с безумными глазами,
в которых стыло небо Палестины,
и соль Голгофы, пемзою шершавой
мерцавшую на гипсовом лице...
Несчастный мальчик! Всё твоё наследство:
земля сырая, цинковое небо,
две ели голубые в изголовье
(их для потехи срежут в Новый год).
...Но почему же становилось меньше
меня и ускользающего мира:
в огромную ревущую воронку
из ветхого мешка слепой Судьбы
шары летели, белые панамки,
сладкоголосый Руссос на кассетах,
и яблони родительского сада,
и вермут, и Саган, и брюки-клёш,
и письма, те, что так и не отправил,
смешные, как глаза смешной девчонки,
сгоревшей с мужем в запертой «ГАЗели»,
набитой сумками таких же «челноков»,
и робкие рассветы, с каждым годом
похожие всё чаще на закаты,
и те, немногие (обиженные мною),
кого по-настоящему любил...
Все умерли: Наташа, Вера, Таня...
Как мне теперь просить у них прощенья,
как прошептать солёными губами,
«что жить они мне больше не дают»?..
* * *
Тлел закат сиреневый
В поле за бараками.
Соловьиным пением
На погосте Ржакином
Нас пугали сызмала.
(Наплывали сумерки.)
Каждый знал, что выйдут, мол,
На охоту жмурики...
И лишь бабка Толика
Как-то раз заплакала:
«Нет, мои соколики, –
Я видала всякого, –
Но из этой ямины
Никому не вылезти.
Соням, Раям, Хаимам
Никогда не вырасти.
...Ров дышал и пучился
Розовою пеною.
Гнали их, замученных,
Бесконечной сменою.
Полицаи бравые,
Наши все, советские,
Сапоги кровавые
Очищали веткою...»
(Вышли звёзды на небо
Боязно, застенчиво.)
«...Говорить не надо бы
Мне об этом, птенчики...»
* * *
Свечой грошовой догорает Русь,
Куда не взглянешь, – всюду пепелище.
По пустырям огонь голодный рыщет,
Стращая смердов: «Скоро я вернусь,
Вернусь войной, разором, мятежом,
Весенним палом, Костромой гулящей
И беспощадным красным петухом,
Что только притворился мирно спящим...»
Время
Оно явилось ниоткуда:
Не объяснить и не понять,
Такое же Господне чудо,
Как грудь, что выпростала мать
Из пёстрой кофты возле зыбки...
Потом тихонечко пошло,
Ещё совсем несмело, хлипко,
Во двор, а позже – за село.
За годом год, за датой дата
Бежало, с каждым днём быстрей,
Как обречённые солдаты
На рёв голодных батарей.
Порой стояло истуканом,
До боли закусив губу,
Порой, пошарив по карманам,
Роптало глухо на судьбу.
А в этот раз его не стало:
Одеждой белою дразня,
Оно у койки потопталось,
Потом исчезло... Без меня.
* * *
«Настенька, тростинка, недотрога...»
Панцирных кроватей длинный ряд.
К дому бесконечную дорогу
Заметает жёлтый листопад.
Глухи доктора, крепки затворы.
Боль, – не пожелаешь и врагу:
Серые прожорливые воры
До утра копаются в мозгу.
В жёлтом доме жёлтые обои.
За спиной – крест накрест – рукава.
Тёмные глазницы вспухли гноем:
«Сколько можно корчить дурака?
Экая несносная персона! –
Бязевый сосед впадает в раж, –
Фёдору Михалычу резона
Не было писать такую блажь», –
Дядя Ваня хищно скалит зубы,
Дядя Ваня здесь который год...
Князю Мышкину намёки эти грубы.
Ночь настанет, – он его убьёт.
* * *
Год за годом смотрю бесконечную фильму
В переплёте экрана, изъеденном гнилью,
Хоть пейзажи знакомы, герои известны
И поп-корном давиться, увы, неуместно...
Ведь бывают порой повороты в сюжете:
То потащат куда-то с венком дядю Петю,
То средь ясного дня громыхнёт как из пушки,
Растеряет девчонка свои конопушки,
Улыбаясь светло сквозь жемчужные нити
В пыльный маленький зал, где единственный зритель
Смотрит вниз, не дыша, обернувшийся в кокон...
Я бы «Оскара» дал всем создателям окон.
* * *
Ветер собирает листья в стаю,
Нанизав на шёлковую нить.
Вы меня не любите, я знаю, –
Разве можно мёртвого любить?
Сиротеют ясени и клёны,
Растеряв по свету дочерей.
Бесконечный, медленный, солёный
Льётся дождь по мордам фонарей.
И скулит, скулит в ночи калитка,
Звякает какая-то херня.
Мраморная тихая улитка
Доползёт к утру и до меня.
* * *
Якушкино. Минькина гора.
Гладкино и Шестаково поле.
Детства беззаботная пора.
Жаркая лапта на косогоре.
Песни баб тягучие, как мёд,
Аромат антоновки и мяты,
Ласточек неудержимый лёт
Над стрехою материнской хаты.
Тёплая полуденная пыль
Разомлевших безымянных улиц,
Дяди Коли стоптанный костыль –
Пьяная гроза соседских куриц.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Было. Сплыло. Ни людей, ни хат.
Время образцовой обезлички.
Горькою усмешкою звучат
На руинах свежие таблички:
Школьная, Садовая, Труда,
Зерновая, Выгонная, Счастья...
Кланяется в пояс лебеда,
Следом иван-чай кивает: «Здрасьте!..»
У плетня – консилиум старух:
«Всё ль разворовали, оглоеды?»
...Накрывает лёгкий смертный пух,
Как простынкой, улицу Победы.
* * *
Синицы пропали. И люди пропали.
И белые груди к окошку припали.
И в комнате стало темно и уютно.
Я помню тот день за минутой минуту.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Синицы пропали. И люди пропали.
Тонули в сугробах молочные дали.
И мальчик в худом, затрапезном пальтишке
Прижался к олешине зябкою мышкой.
Синицы пропали. И люди пропали.
И к вечеру буря утихнет едва ли.
И мальчик бежит, под горою помешкав,
На зыбкую точку – по вешкам, по вешкам.
Синицы пропали. И люди пропали.
Сначала, прижавшись друг к другу, молчали,
Потом – растирали ладони до хруста,
Смеялись. И пахло волнительно-вкусным...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Синицы пропали. И люди пропали.
Как холодно маме в её одеяле.
Укрой же, Господь, сиротливость ночлега
Спасительным, чистым Рождественским снегом.
* * *
Ведь это ты, скажи мне, мама,
Приходишь каждый раз к шести?
И всё зовёшь меня упрямо:
«Сыночек, Витенька! Впусти!..»
А мне – не вымолвить ни звука.
(На мокром скошенном лугу
Стою, схватив тебя за руку,
И всё проснуться не могу.)
Ну вот опять: «Сыночек, Витя!..»
А мне и губ не разлепить, –
В удавке пуповинной нити
Решаю: «Быть или не быть?» –
Ни там ни здесь, а где-то между
Судьбы, зажатой в кулаке...
И голос, потеряв надежду,
В рассветном тает далеке.
* * *
Надеялись – всё впереди,
Затем искали на погосте
Местечко, чтоб нагрянуть в гости.
Вдох-выдох – и конец пути...
Я бестолково жил, как все,
Года транжирил, как минуты,
Российским бытом стебанутый,
Шустрил как белка в колесе...
В ночи кричали поезда,
А над шестою частью суши
Всё безнадежнее, всё глуше
Мерцала поздняя звезда...
Манящей бездны на краю
Помедлимте ещё немного:
Пусть в Ад приводят все дороги,
Но с пересадкою в Раю.
* * *
А вечно только зло.
Ну, может быть, разлука.
Опять белым-бело.
На кладбище – ни звука.
На кладбище – покой
(С картины Левитана).
И хлебушек ржаной
Над полыньёй стакана.
* * *
Четвёртый раз проходит
Под окнами старик:
Сутулый. Трезвый, вроде.
Индюшечий кадык.
Обветренные скулы.
Сухой пергамент щёк.
Что я привстал со стула,
Ему и невдомёк.
Он шаркает ногами,
Он загребает снег.
Не усидел в бедламе?
Иль потерял ночлег?
С какой-то тихой думой
Скрываясь за углом,
Старик молчит угрюмо,
Ему общаться влом.
...Снежинок бойких улей.
Вечерних улиц медь.
А мне уже на стуле,
Боюсь, не усидеть.
Появится ль? во сколько?
Старик из-за угла.
(Не раздавить бы только
Холодного стекла.)
...И, шаркая сторожко,
Торя свою межу,
Под тёмное окошко
Опять я выхожу.
* * *
Пишу, наверно, для немногих:
Старушек нескольких убогих,
Изголодавшейся вдовы,
Переходящей с «ты» на «вы»,
Монашки, девочки-подростка,
Астматика прозрачней воска,
Убийцы с мягкою рукой...
Да синевы над головой,
Да поля русского, нагого,
Да долгожданного улова
Звезды в студёной полынье.
(Она ведь помнит обо мне?..)
© Виктор Кудрявцев, 2019–2020.
© 45-я параллель, 2020.