№ 14 (434) от 11 мая 2018 года
На повороте времени крутом
15 октября 1921, село Копысь, Оршанский уезд, Витебская губерния — 31 июля 1999, Минск
 Из книги судеб. После первого курса Витебского учительского института оказался в эвакуации (1941), работал учителем истории. В 1946 вернулся в Белоруссию, жил в Минске, работал переплётчиком, художником комбината бытовых услуг, фотографом-лаборантом в артели инвалидов. Переписывался с Борисом Пастернаком, Виктором Шкловским, Арсением Тарковским. Первые стихи датируются 1943; первая публикация в 1982; первая книга вышла в 1990.
Из книги судеб. После первого курса Витебского учительского института оказался в эвакуации (1941), работал учителем истории. В 1946 вернулся в Белоруссию, жил в Минске, работал переплётчиком, художником комбината бытовых услуг, фотографом-лаборантом в артели инвалидов. Переписывался с Борисом Пастернаком, Виктором Шкловским, Арсением Тарковским. Первые стихи датируются 1943; первая публикация в 1982; первая книга вышла в 1990.
Поэзия Блаженного уже в начале 1990-х привлекла к себе наибольшее внимание своей религиозной заостренностью. Питаясь отчасти иудаистской традицией спора человека с Богом, отчасти традицией русского юродства, лирический субъект Блаженного ожесточённо упрекает Бога за страдания слабых и невинных (не только людей, но и животных) и с той же страстью признаётся ему в любви.
По публикациям рубежа 1990-2000-х становится ясно, что богоборчество Блаженного, его заступничество за всех малых тварей мира – не единственный стержень его поэзии: столь же властно на протяжении всего творческого пути звучит в его стихах эротическая тема. Поздние стихи Блаженного полны также откликов на волновавшие его явления русской поэзии и писательские судьбы, причём наряду с проникновенными обращениями к Марине Цветаевой и Фёдору Сологубу Блаженный выказывает интерес и к таким значительным, но почти не изданным авторам, как Леонид Аронзон. При общем предпочтении силлабо-тонического стихосложения Блаженный уже в 1940-е годы успешно обращался к верлибру, и его вклад в развитие русского верлибра представляется весьма значительным, хотя публикация ранних верлибров Блаженного оказалась задержана более чем на полвека.
Несмотря на неучастие в литературной жизни Белоруссии (лишь за несколько месяцев до смерти Блаженный был приглашен в редакционный совет журнала «Немига литературная»), Вениамин Блаженный стал в 1990-е центральной фигурой в русской поэзии Белоруссии, оказав влияние на ряд авторов, в том числе на наиболее заметного минского поэта 2000-х Дмитрия Строцева.
Блаженный русской поэзии
1
Блаженно-благословенный юродивый…
 Поэт-юродивый, высокое юродство речи – речи, звучащей за всех униженных, оскорблённых, поражённых явью, пораненных жизнью…
Поэт-юродивый, высокое юродство речи – речи, звучащей за всех униженных, оскорблённых, поражённых явью, пораненных жизнью…
Блаженство юродивости, как выбор судьбы – или подчинение своей поэтической стезе:
Не обижайте бедного Иванушку,
Ему сама судьба согнула плечи
И сам Господь пролил слезу на ранушку…
(От этого Иванушке не легче.)
Метафизический заряд в стихах Вениамина Блаженного велик квантом сострадания, слёзной радугой за боли и скорби, спектром трагедии – поэтической, русской, горькой:
Клюю, клюю, воробушек,
Господнее зерно.
А Бог рассыпал рядышком
И жемчуг, и янтарь.
Не надобно мне жемчуга –
Ведь я богат давно.
А чем богат воробушек?
А тем, что нищ, как встарь.
Ежели поэт не знает стигмата сострадания, рубиново полыхающего на душе, грош ему цена – ни мастерство не спасёт, никакая маска, ни надменность успеха.
У Вениамина Блаженного не надменность – надмирность: надмирность парения с чувствованием языка, как инструмента Божественной благодати; язык – как следствие озарения – не может быть унижен, превращён в передаточное средство; язык: вещий и ведущий, благословенный и скорбный:
И стал орлом и сам – уже я воспарил
На стогны высоты, где замирает дух…
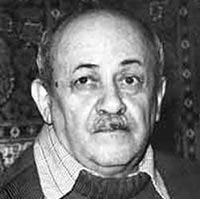 Вера дышит Блаженным Вениамином, вера движет им – о! это совершенно особая, очень русская, даже сектантством отдающая вера, не требующая богословских выкрутасов и каверз, не нуждающаяся в церковности: это вчувствование в нечто, что и дало жизнь – в струящиеся корни духа, в то, что позволяет пройтись по небушку, и топор для охраны от бесов – тоже словесный, особого свойства и волшебных качеств:
Вера дышит Блаженным Вениамином, вера движет им – о! это совершенно особая, очень русская, даже сектантством отдающая вера, не требующая богословских выкрутасов и каверз, не нуждающаяся в церковности: это вчувствование в нечто, что и дало жизнь – в струящиеся корни духа, в то, что позволяет пройтись по небушку, и топор для охраны от бесов – тоже словесный, особого свойства и волшебных качеств:
Как мужик с топором, побреду я по божьему небу.
А зачем мне топор? А затем, чтобы бес не упёр
Благодати моей – сатане-куманьку на потребу...
Вот зачем, мужику, вот зачем, старику, мне топор!
Тяжела и глуха жизнь блаженного во времена съеденные прагматикой, сложна и крива была она и в советских, идеологией замшелых недрах, но – нету отчаяния ото всего, что выпало, нету страха перед смертью, есть – свет стихов, уводящий в дали, где скорбь невозможна по определению…
2
Юродивый Блаженный русской речи
Стигматом сострадания горел –
Ко всем, лишённым драгоценной встречи
Со стержневою силой Божьих стрел.
По небушку, неся топор словесный,
От бесов стерегущих, славный путь.
Блаженство песни растворится бездной,
Открыв стиха рубиновую суть.
Какая боль – дышать стихом и верой!
Какое счастье только этим жить!
…Как будто рай, сокрытый за портьерой
Недолгой плоти, так легко открыть.
Облечённый даром чудодейства
 Современный нам исторический период обнаружил такое жесточайшее противостояние материи и духа, какое, может быть, случилось впервые в истории человечества. Кровавый двадцатый век едва не стал апофеозом торжества материального, победы материи над духом. Нарушение равновесия всегда чревато гибелью цивилизации. Так распалась Римская империя. Так распался Советский Союз. Поэт приходит в мир, чтобы спасти его, уравновешивая материю энергией духа. Можно даже предположить, что поэт бывает бессознательно востребован человеческим сообществом для этой цели, хотя само сообщество не подозревает об этом.
Современный нам исторический период обнаружил такое жесточайшее противостояние материи и духа, какое, может быть, случилось впервые в истории человечества. Кровавый двадцатый век едва не стал апофеозом торжества материального, победы материи над духом. Нарушение равновесия всегда чревато гибелью цивилизации. Так распалась Римская империя. Так распался Советский Союз. Поэт приходит в мир, чтобы спасти его, уравновешивая материю энергией духа. Можно даже предположить, что поэт бывает бессознательно востребован человеческим сообществом для этой цели, хотя само сообщество не подозревает об этом.
Именно в выхолостившей само упоминание о духе исторической реальности, как одинокий феномен, возникла поэзия Вениамина Айзенштадта (Блаженного). На страшном нравственном переломе эпохи появился поэт, всей своей жизнью и творчеством противостоящий угрюмому господству идеологии материализма. Это противостояние было для него органичным, поскольку в основе его была подлинная вера и естественное неприятие мира, в котором умерщвлён дух. Поэзия Блаженного утверждала достоинство личности, свободной в своём выборе и отважной настолько, что она обращала свой гнев даже к Богу...
К Вениамину Михайловичу меня впервые привёл Гена Шарый, мой тогдашний коллега по работе. И я ему бесконечно за это благодарен. Он предложил: «Хочешь, я познакомлю тебя с Поэтом?» Так и услышал от него это слово, именно с большой буквы...
Я был ошеломлён стихами, прочитанными мне Вениамином Михайловичем при нашей первой встрече. Их глубокий трагизм, их внутренняя энергия и плотность были ощутимы физически. Никогда раньше не слышал ничего похожего...
Небольшая квартира в старом доме, видавшая виды мебель. Всюду книги – не только в комнатах, но и в прихожей, не только в книжных шкафах, но и на них тоже, завёрнутые в газеты, чтобы не пылились. Встречала нас очень радушная, приветливая, но с цепким взглядом, Клавдия Тимофеевна, жена поэта, донская казачка, с протезом вместо одной ноги и незаживающей трофической язвой на другой. Она была медсестрой на фронте и однажды совершила там немыслимое – сожгла завшивевшее обмундирование целой роты, пока та мылась в бане, чтобы солдатам выдали новое (до этого неоднократно слала безответные запросы командованию). Обмундирование привезли. Клавдию Тимофеевну разжаловали в санитарки (слава Богу, что не расстреляли). В комнате нас ждал сам поэт, сидящий в кресле с рукописью или книгой. Чем-то напомнил он мне, при всей внешней несхожести, изображение Сократа – так же мощно веяло от его лица спокойной уверенностью и достоинством, так же внимателен и взыскателен был его взгляд... Первоначальное стеснение моё улетучилось – Вениамин Михайлович мгновенно располагал к себе, в нём не было даже тени высокомерия. Читал он слегка глуховатым голосом, почти монотонно – но чтение его завораживало особой внутренней магией, идущей из самой глубины существа, живущего одной поэзией, которая заполняла комнату и захлёстывала меня с головой...
Я был поражён тем, с каким жадным вниманием Вениамин Михайлович покупал и прочитывал от корки до корки практически все поэтические сборники, которые тогда публиковались в советской печати. Даже самые заурядные. Прочтя целиком чью-то книгу стихов, он мог отложить её в сторону, как не заслуживающую внимания, но! – порой выуживал из неё одно-единственное стихотворение, которое находил интересным, и с искренней радостью читал мне. Вместе с тем он был придирчив даже к самым своим почитаемым поэтам, Помню, как он с негодованием разносил в пух и прах какую-то неудачную строчку Маяковского, хотя через несколько минут с неподдельным восторгом читал любимые стихи его же, которых помнил великое множество. Память поэта была феноменальной, и точно так же мог он часами читать наизусть Цветаеву, Ахматову, Пастернака, не говоря уже о Лермонтове и Пушкине...
Я был навсегда покорён глубиной и мощью его самобытного дарования. Его творчество заставило меня пересмотреть моё отношение ко многим поэтам – нравственная сила его стихов просвечивала до дна чужое поэтическое мелководье.
Тарковский и Липкин при встрече с Айзенштадтом зимой 1983 года так определили его место в современной поэзии: «Вы – лучший из живущих». Когда я встречался с Тарковским в Переделкино, передавая ему рукописи Вениамина Михайловича, он слово в слово повторил своё высокое мнение об Айзенштадте.
Ниже – записанные мной фрагменты из бесед с В. М. Айзенштадтом, его слова – курсивом (сожалею, что мало записывал):
«Пушкин выше всех в гармонии стиха, даже Лермонтов кажется грубым по сравнению с ним... Только Мандельштам в этом стоит рядом с Пушкиным».
Тем не менее в другой раз о Лермонтове: «Лермонтов бесконечно выше всех пишущих и писавших, выше Блока с его раздвоенностью, выше Есенина с его ущербностью, выше Пушкина с его уступчивостью... Пушкин иногда пишет, как держит кукиш в кармане; у Лермонтова нет этого, он – былинный богатырь, скальд. Поэтому и Петровского привлекал Лермонтов, о Пушкине он писать не смог бы, Пушкин был светский человек, в нём было и лукавство, и другие приметы светскости... Лермонтов – вне времени, вне среды, словно пришелец из космоса, это голос библейского звучания.»
(О Дмитрии Петровском я упоминаю ниже).
О Цветаевой: «Марина – это забвение себя, абсолютное отрицание себя. Ахматова не могла писать так, как Цветаева – не позволяла женская гордость. Но она сама мучилась этой гордостью... Путь любви – всегда самопожертвование. Иного пути нет. Цветаева умела рубить, сжигая себя, выходила обожжённой – или озарённой. Она всегда – мотив жертвенности. Ахматова видит себя, только себя. Мужчина должен её любить, боготворить... Две тайны любви. Цветаева – фонтан, брызжущий во все стороны. Ахматова – струя ледяной родниковой воды. И холод обжигает.»
Между тем, Вениамин Михайлович боготворил и Цветаеву, и Ахматову.
Встречи с Борисом Пастернаком (всякий раз это был не один визит), первая в 1946, вторая в 1948. После каждой беседы Пастернак давал на прощание деньги молодому поэту. Айзенштадт упорно отказывался, но Пастернак не уступал. Однако Вениамин Михайлович всякий раз ухитрялся при уходе оставить деньги в доме. Всякий раз, кроме их последней встречи. Но, боготворя своего кумира, Айзенштадт так никогда и не истратил деньги Пастернака – хранил как реликвию. Я их видел…
По словам Вениамина Михайловича, Пастернак говорил о Библии: «Настольная книга человечества, раскрытая на все случаи жизни».
Григорий Корин, московский поэт, вместе с Тарковским способствовал первым публикациям Вениамина Айзенштадта. Он же придумал ему псевдоним, сперва «Блаженных», а впоследствии уже «Блаженный». Я привёз однажды в Москву, ему и Арсению Тарковскому, рукописи Вениамина Михайловича. Григорий Корин приезжал к нему в Минск, а впоследствии поэта навещала дочь Корина и Инны Лиснянской, Елена Макарова. Она тоже тогда способствовала публикациям стихов поэта, например, в «Новом Мире». Сейчас она живёт в Израиле, известный прозаик, эссеист, историк (она собирает свидетельства о Холокосте, и, в частности, о художественном творчестве узников концлагерей), скульптор, педагог-исскусствотерапевт и куратор художественных выставок, автор более сорока книг.
Помню, как мы с ним радовались самой первой публикации в «Дне Поэзии», тогда благодаря Евтушенко появились сразу три стихотворения. В 1982. А публикация в «Новом Мире» – в 1988. Маленький праздник. Поэту было под семьдесят...
Из воспоминаний Айзенштадта:
Пастернак однажды заметил в разговоре: «В Москве есть ещё один такой же сумасшедший, как Вы...» У меня всё упало внутри, словно в детской игре «вверх-вниз» – была такая игра. Я спросил: «Кто же этот сумасшедший?» Пастернак ответил: «Дмитрий Петровский» – и я возликовал, хотя ничего ему не сказал, конечно. Петровского я уже знал и любил тогда...
Он же о своей встрече с Асеевым: Он меня буквально вытолкал за дверь, выгнал из дома... Тем не менее это мне не мешает любить стихи Асеева.
Вениамин Михайлович с наслаждением читал мне Дмитрия Петровского. Он переписал для меня несколько стихотворений из книги «В гостях у Лермонтова». Вот одна из строф Дмитрия, удивительная:
В каюте в полночь заиграли Листа.
Под ветром мачты гнулись и скрипели.
В октаву ниже виолончелиста
О двух бортах морские волны пели.
Когда у меня тяжело на душе, эти четыре строчки возвращают мне вкус к жизни.
Из его размышлений о творчестве:
«Стихи – это волевое усилие.
Для большой поэзии это усилие должно быть каждодневным.
Без вдохновения стиха нет, но одного вдохновения недостаточно... Сологуб, сын портного и прачки – чем он создал себя, если не волей? Среды у него не было...»
Липкин рассказывал, что в разговоре с Мандельштамом зашла речь о строках
«Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа».
Липкин спросил, отчего «Франсуа», когда возможен «Антуан» с точной рифмой. Осип Эмильевич отвечал ему, что в этом случае взгляд читателя скользнул бы дальше, к последующим строкам, тогда как «Франсуа» заставляет остановиться и вернуться ко всей строфе. Не всё так просто! Излишняя лёгкость становится усыпляющей и убаюкивает читателя. Этого допускать нельзя. Здесь срабатывает чувство меры художника.
Если Блок – «трагический тенор эпохи», то Есенин – отрок Варфоломей. Его прозорливость первым заметил и обратил на неё внимание Леонид Мартынов. Ахматова говорила, что Есенин взял одну ноту из оркестра Блока и играет на ней. Ничего неправдоподобнее нельзя было сказать о Есенине. У него всё своё, заимствованного нет ничего – ни от Блока, ни от Клюева. Обнажённостью стиха Есенин в русской литературе сравним только с Лермонтовым...
Маяковский в своём стремлении во что бы то ни стало быть оригинальным часто оступался.
Вениамин Михайлович – о своём визите к Кирсанову и неожиданной встрече там с Олешей:
...Он меня не понял, не мог понять. Всё же что-то признал во мне. Был он маленького роста, коротконог и выглядел комично, когда грел у камина свои маленькие ножки... Иное дело Олеша. В его облике было что-то величественное. Он был ладно сбит и крепко скроен, как каменная глыба. Я сидел в углу комнаты сбоку от двери, и когда вошёл Олеша, он меня не заметил сразу, обратившись к Кирсанову: «Сёма, у тебя ничего не осталось после вчерашнего?» Кирсанов взглядом указал на меня. Олеша повернулся ко мне и представился просто: «Олеша». Для меня это было потрясением – увидеть живого Олешу! Он, по-видимому, заметил моё мгновенное оцепенение, потому что спросил: «Вы меня читали?» Я прочёл ему залпом, наверное, около страницы «Зависти», с первых строк – «Он любил петь по утрам в клозете». Юрий Карлович поправил только одно слово. Ему было приятно слышать, что его ещё помнят, он был искренне рад: «Олешу не забыли! Олешу читают!» И между нами сразу установились какие-то особенные, простые отношения. Он первым назвал мои стихи прекрасными – без всякого энтузиазма, впрочем, но я и не обратил тогда на его отзыв особого внимания. Одет он был крайне бедно, нищенски, но нёс на себе это ветхое рубище с огромным достоинством.

* * *
Вениамин Михайлович много рассказывал о детстве и юности. Уже навсегда заболевший стихами, он отовсюду переписывал их – в том числе, когда учительствовал, из чудом уцелевшей в районной библиотеке, гигантской тысячестраничной антологии русской поэзии, включавшей в себя всех поэтов Серебряного века (и переписал её всю!). Он рассказывал мне об этой антологии с неиссякшей любовью.
В предисловии к его книжке «Скитальцы духа» (изданной в двухтысячном году, уже после его ухода), я наткнулся на утверждение, что поэт два десятка лет не выходил из квартиры. Это неправда. Несмотря на то, что Вениамин Михайлович страдал множеством болезней и редко покидал свой дом, мы всё же время от времени делали с ним позарез нужные ему вылазки во внешний мир – например, добирались на электричке на чёрный книжный рынок. Он располагался за городом, на лесной поляне, откуда хорошо просматривалось окружение. Это было критически важно – время от времени власть устраивала на рынок налёты. Тогда все продавцы до автоматизма отработанными движениями – хлоп! хлоп! хлоп! – мгновенно сгребали все книги в свои рюкзачки и баулы и давали дёру во все стороны. Это было феерическое зрелище, похожее на взлёт стаи испуганных голубей... Вениамин Михайлович любовно, как драгоценность, брал в руки каждую книгу и, даже если не собирался её покупать, долго из рук не выпускал. Было видно, как ему больно расставаться с нею...
Мы также ездили с ним смотреть изредка появлявшиеся в наших кинотеатрах зарубежные фильмы. Например, «Амаркорд» Феллини, «Мефисто» Клауса Марии Брандауэра, другие шедевры. Вениамину Михайловичу было непросто отсидеть полтора-два часа в кинозале, но он забывал о своих недугах, в полной мере наслаждался великой кинематографией и преображался, когда фильм его волновал...
Его личность слилась для меня с его стихами, где он нежно боготворил всё живое и – он сам говорил мне об этом – не мог убить даже мошки. Он и писал о мошках и букашках с неподдельной любовью, отождествляя себя с ними:
Боже, роди не букашкой – роди меня мошкой!
Как бы мне мошкою вольной в просторе леталось!
Его не призвали в 1941. Знакомый врач сказал ему перед тем, как Вениамин Михайлович пришёл на призывную комиссию, что ему достаточно быть самим собой, и комиссия сочтёт его непригодным для призыва. Так и вышло. Призывная комиссия нашла его сумасшедшим и отправила в сумасшедший дом... Впоследствии, после войны, поэта упекли в психушку ещё раз. И тогда он мог бы погибнуть – его здоровье навсегда подорвали убойными инъекциями психотропных препаратов – если бы его не вытащила оттуда, включив все свои связи, Клавдия Тимофеевна...
Большой поэт был начисто лишён самомнения и не считал себя выше самого последнего бродяги. Он называл своей сестрой Цветаеву, в которой видел ту же испепеляюшую жертвенность в непрестанных поисках духа.
В моём болоте черти водятся
И нечисть всякая без счёта,
Но забредает Богородица
В моё проклятое болото...
Вениамин Михайлович ушёл вслед за Клавдией Тимофеевной, меньше чем через месяц. В этот последний месяц, которым стал июль 1999, за ним преданно и самоотверженно ухаживала Ирина Захарова, которую я когда-то привёл к поэту, как раньше Гена Шарый привёл к нему меня. Ирина, ангельская душа, была с ним и в его последние минуты, хотя, пока была жива Клавдия Тимофеевна, к нему приходили многие. Мне не удалось прилететь из-за океана на его похороны, и я запомнил его живым... Он называл себя Скитальцем Духа. Был им:
Не судите меня по законам железного века.
Весь я – искра огня, что искала во тьме человека.
И напоследок – опубликованные в предисловии к первой большой и составленной самим поэтом книге «Сораспятие» отрывки из писем Арсения Тарковского, Николая Панченко, Александра Межирова, Александра Кушнера, Инны Лиснянской.
«Дорогой Вениамин Михайлович!
Ваши стихи опять потрясли меня, как и при чтении первой посылки. Очень важная для людей книга получилась бы из Ваших стихотворений, несомненно, всеобщее признание стало бы Вашим уделом...
Стихи Ваши читаю и перечитываю. Давно уже я не радовался ничьим стихам так, как Вашим.
Искренне уважающий и любящий Ваше прекрасное, ни на кого не похожее дарование.»
«Дорогой Вениамин Михайлович!
Стихи Ваши – чудо. Как и должны быть истинные стихи. Это подарок великим, хотя и не всякому по плечу. Да и не может быть всякому. Пока это так, а Вы не в «пока» живёте, Вы высовываетесь из него во все стороны. Мир Ваш больше (в несколько раз) общепринятого, того, в котором наивный рассудок пытается спастись от бездны. И радостно за Вас, и страшно.
Спасибо Вам за Вашу жизнь, за труд этой жизни.»
«Глубокоуважаемый Вениамин Михайлович! Много лет я не слышал, не читал стихов такой силы и красоты, как Ваши...
Вы истинный поэт и дар Ваш прекрасен.
Спасибо Вам.
Почтительно и восхищённо.»
«Уважаемый Вениамин Михайлович!
Мне долгое время не удавалось сесть за Ваши стихи, прочесть их как следует: то уезжал, то всплывали какие-то неотложные дела, то приходилось читать гладкие и пустые стихи, вызывающие во мне чувство тоски и отвращения к поэзии.
К Вашим стихам это не относится, они прекрасны. Вы пишете о самом главном: о жизни, о смерти, одиночестве, детстве. Как замечательно Ваше постоянство, какой духовной силой надо обладать, чтобы не бояться возвращаться всё к тому же и писать почти теми же словами, но по-другому...
Мне особенно понравились «Воскресшие из мёртвых не брезгливы», «Боже, как хочется жить! Даже малым мышонком», «И понял я, что есть страна умерших», но больше всех – «Моление о кошках и собаках». Это поразительные стихи.»
«Дорогой Вениамин Михайлович!
Ваша душа, т. е. Ваша поэзия, обволокла меня таким земным и вместе с тем таким запредельным воздухом, где жизнь и смерть – одно, и значит ничего не страшно, хоть всё трагично. Ваши стихи с бродяжничеством, с их странным отношением с Господом нашим, с их Матерью и Отцом (которые становятся не только Вашими, а всемирными и надмирными) теперь меня никогда не покинут.»
Дaвид Поташников, ноябрь 2021
Иллюстрации:
Фотографии из личного архива автора.
Творчество
Подборки стихотворений
- Коли Бог – так воистину Бог... № 14 (434) 11 мая 2018 года
- Лик неведомого Бога № 35 (563) 11 декабря 2021 года
Комментарии
-
Ольга Молодцова Вениамину Блаженному 20 апреля 2021 года
Богословские выкрутасы- лихо!
Так и на любую статью можно сказать- литературные выкрутасы.
Без Бога нет порога - это слышится в каждом стихотворении Вениамина Блаженного.
А в целом я согласна с автором статьи.
Стихи Вениамина Блаженного довольно часто встречаются в интернете.
Всегда читаю с большим интересом.

Добавить комментарий