Дуэль
Когда Сашка Сайкин, высокий, стройный, худой Сашка, курчавый обладатель римского профиля и нежной кожицы на лице, надевал вельветовую курточку с отложным воротничком, он становился похожим на кого-то изысканного и аристократичного, искушённого в тонкостях любовных признаний. Наверное, на герцога, а ещё лучше, эрцгерцога. Много лет спустя в английском фильме я увидел лорда Байрона и решил – вылитый Сашка. Помимо чисто внешнего сходства, имелась одна убедительная деталь в пользу этого сравнения: Сашка пламенно, я бы даже подчеркнул, поэтически любил одноклассницу Валю.
Любил по-книжному. Своего опыта у нас не было, и мы пламенели чувствами и восторгами, позаимствованными у классиков. Кто не любил в девятом классе, тот не поймёт.
Он любил по-шиллеровски. Например, мечтательно прикасался губами к её платочку, который стащил, чтобы не сказать, похитил, у Валиной подруги. Я завидовал его блаженству и страдал, потому что не находил в себе подобных порывов. К началу описываемых событий я представлял из себя довольно занудного резонёра, начитавшегося популярных книжек по физике и астрономии. То есть, любил порассуждать о бесконечности космоса и неисчерпаемости разума, а заодно и о светлых горизонтах науки.
Соблазнительный пример друга, нашедшего земное блаженство без помощи чёрных дыр и элементарных частиц, впрыскивал в мою кровь изрядную порцию зависти. Я тоже ждал повода загореться великим чувством. Сашка же, между тем, посвящал возлюбленной длиннющие монологи в стихах. Частенько в его творениях не соблюдалась рифма, а слова «любимая», «милая» по частоте употребления уступали разве что точке и запятой.
Я усматривал в повторениях несовершенство и советовал избавляться от них, а мой друг убеждал меня, что именно это и составляет всё очарование сердечного признания. Лучше всего спор рассудила бы сама Валя, но она ничего не ведала о поэтических опытах моего друга.

Она не знала ничего, кроме того, что она симпатичная и вскружила голову не одному Сашке. Так думал мой друг. Я вслух соглашался с ним, а где-то в глубине души подозревал, что вопросы сокрушения мужских сердец были у неё на втором плане. Прозаичная математика занимала в её воображении куда больше места. И всё потому, что математику требовалось сдавать в любом институте. Математика и ещё русский язык (письменно или устно) принимались в неограниченном количестве. А что касается спроса на шиллеровские чувства – здесь был явный недобор.
Мы обсуждали Сашкину любовь между чтением книг и спорами на тему: кто важнее для человечества – Бальзак или Дюма, Достоевский или Майн Рид? Мой друг ночи коротал в обнимку с приключенческими романами. Я же, как и все пока ещё невлюблённые, был рационалистом и подвергал ворчливой критике подвиги путешественников и вооружённых авантюристов. «Ах, как ты не понимаешь, причём тут польза, ведь здесь любовь, благородство...», «Да, конечно, любовь... ах, любовь...».
Я спорил бескомпромиссно и умно. Честно расходовал свои аргументы и каверзно подставлял шею под груз чужих доводов. Так, не теряя лица, я приобретал сердце и в полном боевом порядке переходил на позиции моего друга. Кто не знает, что вновь обращённые – самые истовые служители идеи? «Да что вы о пользе... какая польза, ведь здесь - любовь!». Но это уже мой голос...
Беду принёс незнакомый лейтенант. О нём нам стало известно, что он красивый и умный. Больше Валя о новом знакомом – читай: поклоннике – ничего не сообщила.
Прежде всего, самое главное – лейтенанту было двадцать шесть лет. Теперь, когда я и сам взял этот, некогда казавшийся мне таким недостижимым лермонтовский возраст, добросовестно отдал ему триста шестьдесят пять дней и устремился дальше по шкале времён, могу свысока сплюнуть: тьфу, двадцать шесть лет. Могу даже снизойти до остроты: двадцать шесть и уже лейтенант!
Но тогда ничего этого я себе позволить не мог. Обладатель двадцати шести лет представлялся мне владельцем миллиона долларов: невозможно даже вообразить, что это такое и что с ним можно сделать. Он казался воплощением могущества, дарованного счастливчикам, перешагнувшим заветный рубеж.
Лейтенант на дивизионном «газике» приезжал из далёкого гарнизона, и я представлял, как он в новенькой фуражке – из-под лакированного козырька смотрят проницательные, выработавшие на учебных стрельбах особенную зоркость глаза – в строгой шинели, подтянутый и, главное, взрослый, шагает рядом с нашей Валей, удачно шутит, загадочно молчит, к месту вспоминает разные истории. Он знал о себе, о Вале, о нас что-то такое, о чём мы, поклонники Шиллера, понятия не имели.
Это теперь, спустя много лет, я усвоил, что и в двадцать шесть лет попадаются чудаки, которых иная восьмиклассница поучит в тёмном подъезде целоваться. Сейчас, встречая девятиклассников, «тогдашних» моих сверстников, я почему-то думаю, что кое в чём они разбираются лучше меня. Во всяком случае, они для меня такая же тайна, как и граждане Атлантиды.
Наверняка, лейтенант позволял себе смотреть на нашу Валю долго и откровенно, не отрывая глаз, как не могли себе позволить мы. Он был ровно на десять лет старше нас, много повидавший, побродивший по свету, и ножом в сердце входила ничем не устранимая ревность к превосходству чужого опыта. От него нет защиты, он несжимаем, как вода.
При таких вот обстоятельствах нас и настигло известие, что лейтенант признался в любви и, как это пишется в любимых нами романах и происходит в жизни, предложил руку и сердце.
Нас не утешило даже то, что Валя отнекивалась. Да и куда ей было замуж? Она пожимала плечами и уклончиво молчала, а он, неутомимый и настырный, не отступался. Да и с чего бы ему огорчаться, уж он-то в свои двадцать шесть лет знал, как зыбка и непрочна школьная любовь. Этого не допускали только мы, безнадёжные идеалисты, верившие в вечную – и никакую иную – любовь.
Наше воображение пока ещё не занимали такие недостойные внимания низкие материи, как квартира, ремонт, полкило мяса в целлофане, проблемы гарнитура и дамских сапожек. Но все эти неромантичные мелочи немало значат в нашей далеко не вечной жизни и обязательным довеском дополняют стихию чувств, как прочное дерево обрамляет излившийся на холсте каприз причудливой фантазии художника.
Он повидал начало и конец не одной школьной дружбы и не раз был свидетелем, как девчонка со свидания с одноклассником направлялась не куда-нибудь, а в ЗАГС с почти незнакомым человеком. И – представьте себе – была счастлива!
Валя убеждала нас, что ей просто интересно с ним и не больше, и что если бы он сам не обхаживал её, она бы его давным-давно забыла.
Этого хватало: наша мнительная неуверенность в себе перерастала в отчаяние. Если бы взрослые время от времени давали себе труд заглянуть поглубже в душу пятнадцатилетнего, все разговоры о самонадеянности подростков отпали бы тут же. Маленькая, дрожащая от страха собачонка, Моська, с перепугу бросающаяся на слона, на всё большое, страшное, непонятное – вот что такое мечущаяся душа отрока.
И тогда был найден достойный выход – дуэль. В наши классические представления о правильной любви дуэль входила вполне естественно. Любовь или смерть, и никак иначе.
Замысел выглядел так: вызвать лейтенанта из клуба во время его очередного визита, – Сударь, имеется пара вопросов к Вам, – по-мужски побеседовать с ним и предложить честный поединок на кулаках.
План разработал я, и мне он казался превосходным.
Сашка сжимал и разжимал побледневшие, длинные, музыкальные свои пальцы, укладывал подбородок на сжатые кулаки, молчал, а я, откинувшись в кресле, рисовал картины геройской схватки и уже воображал побитого и посрамлённого конкурента. Разумеется, битва будет до победного конца. Побеждённый долго будет лежать на земле, пока победитель не отдохнёт, не поднимет великодушно его и не приведёт в чувство. Побеждённым будет, естественно, лейтенант, а драться придётся, само собой, мне. Я лучший друг и физически здоровее.
Мой друг с сомнением покачал головой и спросил: часто ли я дрался?
Вместо ответа я заставил его потрогать мои бицепсы. Потом мы вышли на улицу, и я, наслаждаясь прикосновениями холодного ветра к обнажённому телу, забрался на турник и подтянулся семнадцать раз. Во время отдыха пальцы рук мелко вздрагивали, а вены на руках набухли. Потом я подхватил двухпудовую гирю и по нескольку раз выжал её правой и левой рукой. На этом смотр боевой готовности закончился. Задатки обнадёживали. Верилось, что под нашими планами зиждется прочная материальная основа.
Я в глаза не видел этого лейтенанта, но в успехе не сомневался. Сашка же верил меньше и грустно рассуждал, что, мол, мои железные бицепсы и стальная воля, дело, конечно, хорошее, но надёжнее всё-таки было бы другое оружие, но оно, увы, в руках Вали. Это меня злило. В конце концов, моя физиономия выставлялась не экспонатом в Третьяковскую галерею, и можно было, по крайней мере, не пророчествовать вслух на этот счёт.
Ждали субботы.
В субботу утром я, как бы между прочим, отметил вялый аппетит. Сардельки я прожевал и проглотил исключительно с утилитарной целью: подпитать «бранные мышцы». От сладкого чая меня затошнило. Уходя в школу, я заглянул в зеркало, оскалил зубы и без энтузиазма подумал, что сегодня их может поубавиться.
А вечером я отправился к Сашке и неприятно удивился его хорошему настроению. Радоваться сегодня имел право только я. Шутить, расточать улыбки, отвечать на вопросы, принимать товарищеские соболезнования, искусно замаскированные под бодрые напутствия, – одним словом, предстать дерзким аргонавтом, спасителем отечества. Его же доля – быть сдержанным, скорбно понимающим и ненавязчиво восхищаться мной.
Он ещё не оделся. Я разозлился и, было, подумал о гадости, например, извиниться, мол, у меня запор или понос – пакость особенно приятна, когда её облекаешь в ехидные формы – и я, увы, беру тайм-аут.
– Готов, боец? – подзадорил он, когда я, недовольный и мрачный, устроился в кресле и отвернулся от него.
– Худо тебе придётся, – весело продолжал он портить мне настроение, – он ростом с тебя и к тому же тяжелее на десять килограммов.
– Плевать хотел.
– Плюй, плюй. Он мастер спорта по хоккею.
Положа руку на сердце – в чём я могу признаться? Эти слова не порадовали меня. Лучше бы их не слышать. Они произвели во мне нехорошее действие. Мои идеалистические приобретения последних времён отчасти померкли, и я вспомнил, что настоящая история вершится не в головах, а на поле брани, на котором частенько гниют проломленные черепа переоценивших свои возможности хвастунов.
– Поздно сворачивать, – процедил я сквозь пока еще бывшие моими зубы, – авось не пропадём. Я свои раунды продержусь, будь спокоен.
Всякий, кто попадал в подобные переделки, по достоинству оценит по-спартански лаконичную и исполненную внутренней мужественности мою реплику.
– Охотно верю. Но дело не в этом. Бой не состоится. Валя рассказала ему о нашей затее...
– Как это рассказала?
– Я проболтался ей обо всём, ты уж прости. Если бы я сам, одно дело, а подставлять тебя, сам понимаешь... В общем, Валя просила его больше не приезжать.
– Ну, а он?
– Посмеялся. Просил передать тебе привет. И уехал.
И он, весело посвистывая, принялся примерять новую рубашку.
Мы торжествовали победу. Итоги сорвавшегося не по моей вине честного поединка были занесены в графу «выполнено». В ушах трещали литавры, словно я в самом деле расправился с гориллоподобным верзилой. Правда, у меня ни с того ни с сего в тот вечер расстроился желудок – заклятый враг героев в минуту серьезных испытаний. Это ненадолго отвлекло от триумфальных переживаний. Но досадная неприятность быстро забылась. А через несколько дней, никому про это не рассказывая, я про себя знал, как прекрасно я дрался.
Победа была полной.
Лейтенанта мы победили.
Но не судьбу.
Через три года этот самый лейтенант женился на нашей Вале.
Не приходите, я вас жду…
Всю дорогу весёлое настроение не покидало маленькую прелестную женщину. Казалось, она, белая, незагоревшая, свежая, направляется к морю не за здоровьем, а наоборот, расточать его избыток.
Гениальный человек догадался нашивать на женские блузы погончики. Они сводили с ума, хотелось наклониться к ним, рвать зубами. Блуза теснила её тело, и я с тех пор, как оказался в одном с ней кресле, гадал, расстегнётся или нет на её груди третья сверху пуговка.
Когда я охватывал взглядом её ладную фигурку, мне казалось, что я ладонями обвожу всю её от коленок до висков. Тело попутчицы должно было быть белым, гладким, упругим и шелковистым под пальцами, оно излучало тепло, и все мои ожидания каким-то образом были связаны с ним.
Ни позавчера, ни вчера, ни сегодня утром, когда я, опаздывая на автобус, бежал по шершавому после дождя асфальту, этой женщины не было. Было предчувствие двух беспечальных недель на море и волнение, даже страх перед неопределенностью выбора, который предстоит пройти и произвести мне. Теперь всё это, очень смутное, воплотилось в плотно сбитую, светлую женщину с зелёными глазами, и я чувствовал, как по мне от пояса до коленей проползал холодок при мысли о том, что завтра весь пляж увидит её обнажённой, и кто-то захочет пальцами прикоснуться к этой изящной ладони, успокоившейся на подлокотнике кресла.
Я давно готовился к такому, предвкушал нежданное сезонное счастье, незаконное и мимолётное, которое избавит от размышлений и волнений, а лишь скоротечно навестит и удалится. И вот это самое начиналось.
Я смеялся, когда смеялась внезапно и сразу вошедшая в меня северянка, задумывался, когда хмурила брови она, и не давал себе отчёта в том, как перепады моего настроения зависели от движения её белесых бровей.
– С вами интересно, я чувствую к вам необыкновенное доверие, – искренне льстил я и верил своим словам.
– Мне говорили, что я необщительная.
– Разве могут быть необщительными симпатичные женщины? – «такие красивые» и «очаровательные» я приберёг для последующих реприз.
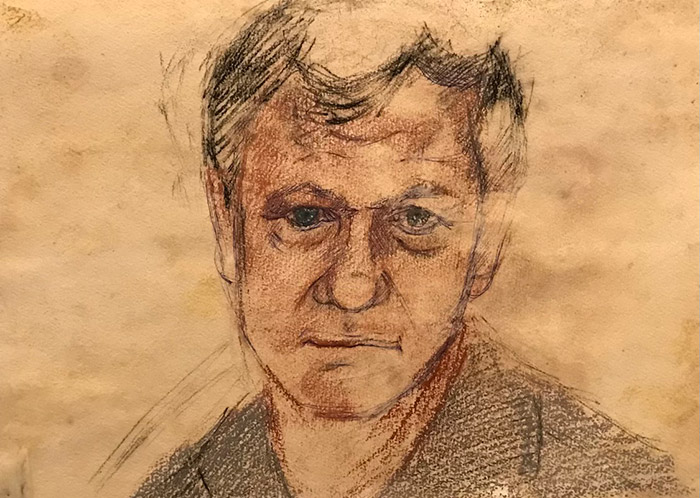
Она внезапно, словно что-то вспомнила, рассмеялась, и смех её напомнил далёкое и лёгкое, наверное, из детства, когда я и сам мог долго и весело смеяться просто так.
Разговор самый обыкновенный.
«Бывали ли вы на море?», «А знаете, как хорошо в горах!», «Нет, Ленинград, что ни говорите, самый прекрасный город в мире!», «Не понимаю, как можно ездить в Ленинград отдыхать. Это такая нагрузка на память и воображение»… Мы придумывали вопросы – я, не дослушав её ответа, уже изобретал, о чём бы спросить ещё – и быстро отвечали, ни в чём не противоречили друг другу, во всём соглашались, как будто торопились очертить пространство, в котором были мы, двое, понимающие и знающие нечто сверх того, что доступно всем остальным.
Она называла себя поморкой и утверждала, что поморы – люди суровые, грубые, замкнутые. Я ликовал, когда юбка обтягивала её загадочные колени и счастливо соглашался – да, суровая, конечно же, тяжёлый характер, безусловно, нелюдимая – потому что не было на всём свете больше неправды, чем эти слова. И желал сейчас же, немедленно, поцеловать её в губы. Это выглядело так: вот она, смеясь, откидывает голову, и я поправляю упавшую на щёку прядку волос, снимаю её темные очки и губами касаюсь губ, на которых ещё плавает улыбка.
Что она скажет? Что я отвечу? Я задумался – и опоздал: мгновение ушло, и я оробел перед тайными глубинами мелькнувших видений, но в душе наслаждался сковавшей несмелостью.
– А вы казак, настоящий казак, – дразнила она. – Если бы вы родились сто лет назад, вы бы носили черкеску и у вас была бы сабля. Представляю, вы поднимаетесь на кафедру, а в руках у вас сабля, – и она заливалась смехом.
На хлеб я зарабатывал не чтением лекций, а тем, что строчил репортажи в газету. И саблю на кафедре вообразить не мог, потому что это было, в общем-то, не смешно. Спутница шутила не всегда тонко и удачно, и я, обычно взыскательный к остротам и каламбурам, отмечал несовершенство шуток, но это не мешало упиваться обманчивой женской естественностью…
Туапсе напоминал пышное заброшенное кладбище на краю синей пустыни. Автобус ворвался в город около десяти утра, и светлая тень субтропиков погасила солнце на его стеклах. Северянка растерянно искала привычную точку опоры для зрения в нетерпимой зелени. Магнолии, грецкие орехи, самшит, каштаны вкрапывались в пространство восторженными хлорофилловыми пятнами, и её ошеломили эти первые приметы бьющей через меру жизни, о которой она столько слышала.
Она вглядывалась, вслушивалась, терялась в незнакомых запахах. В неравномерности и несимметричности выросшего на скалах города её насторожило неравнодушное безразличие к приезжему. Поднимались и опускались узенькие улочки; стёсанные подошвами камни, ступени; неожиданные, крутые повороты; коричневые скалы, слепящее солнце – всё это создавало иллюзию преднамеренной замкнутости и тесноты, в которых каждый столкнётся с тем, что ищет.
Опьянение туапсинской экзотикой в первый приезд на побережье ещё жило во мне, и я понимал её. Она подавленно молчала и, наконец, с сожалением и завистью выдохнула: «Счастливчики вы, южане». И мне захотелось сделать что-нибудь, чтобы она тоже стала южанкой и никогда не уезжала в чудный городишко с древним русским именем за горизонтом русской земли.
По расписанию автобус задерживался в Туапсе на полчаса. Я не мог быть спокоен рядом с ней. Всё, что было в моей жизни прежде, словно отступило перед значимостью происходящего сейчас. Меня переполняла потребность ликовать, быть по-кавказски расточительным, удивлять, дарить, преподносить сюрпризы.
Остановили такси. Море вздыхало в четырёх кварталах от автостанции, и через полминуты мы достигли пристани.
На рейде томились тёмные танкеры. Ближе к берегу сновали буксиры, похожие на детские кораблики. Их суета и движение скрывали ту же тоску и зависть, которые разъединяют людей на берегу. Северянка с удивлением смотрела на автомобильные покрышки, гирляндами свисавшие вдоль бортов буксиров, и для неё это было так же ново и непостижимо, как и быстрые взмахи крыльев чаек.
Спустились к воде.
Как бы со стороны глядя на её руки, волосы, плечи, я представлял, как далеко от меня была она ещё вчера, и как непрочно то, что сейчас сорвалось с её уст. Она брела вдоль пенистой кромки, и море казалось обманчиво тихим и сытым, и я подозревал в этом подвох и всё боялся, что она растворится в воздухе или исчезнет в волне.
Когда поднимались по ступеням, моя рука покоилась на её талии.
Мы задержались на открытой террасе несколько мгновений, почти касаясь плечами, и я не понимал, безумие это или счастье. Она прерывистым, но вполне восстановленным голосом проговорила:
– Я не хочу отсюда уходить. Давайте останемся здесь?
И я согласился, и уже собрался ответить «да, останемся», но она опередила:
– Нет, мы ещё успеем сюда приехать, правда?
«Мы ещё успеем сюда приехать, правда?»
Прелестная, прелестная женщина!
В автобусе, когда я хотел обратить её внимание на что-нибудь, я принимал её пальцы в свои…
– Вы легко сходитесь с незнакомыми? – спросил я.
– Плохо. Я всегда чего-то боюсь. Я страшная трусиха.
– Боитесь чуждого влияния?
– Нет.
– Боитесь разочароваться?
– А разве можно наперёд ожидать чего-то?
– Да, – откликнулся я и радостно признался в том, что всегда держал при себе. По-особому волновало, что мою красивую, гладкую речь она слушала внимательно и, наверное, очень понимая меня, и от этого я становился ближе к чему-то, чего пока ещё не знал, но к чему, был уверен, стремился.
Ах, женщины… Где-нибудь на улице, в автобусе, кинотеатре я выхватывал глазами из толпы неизъяснимо привлекательное женское лицо, и сразу налетали предчувствия и желания, и они терзали. Каждый раз по-новому я переживал какую-то неустроенность, мучительный разлад между тем, что я есть, и тем, чем мог бы быть. Когда женщина исчезала из виду, я с трудом подавлял в себе желание покорно следовать за ней.
– Меня волнуют современные дети.
– Акселерация, – улыбнулся я.
– Для вас акселерация далёкое, казус. А меня они пугают. У них нет ничего святого. Они очень практичны.
– Двадцатый век.
– Знаете, один мой ученик предложил переспать с ним. Просто так: не хотите ли? Вы же не девочка…
– Очень любопытно, – механически пробормотал я, не найдясь, что ответить.
– Я не могу понять, откуда у них такая тупость? Ему в голову не пришло, что он неравный мне партнер. Мне скучно с ним. А если уж строить какие-то планы – женщины добиваться надо, ухаживать. Пескари, и те брачный танец устраивают.
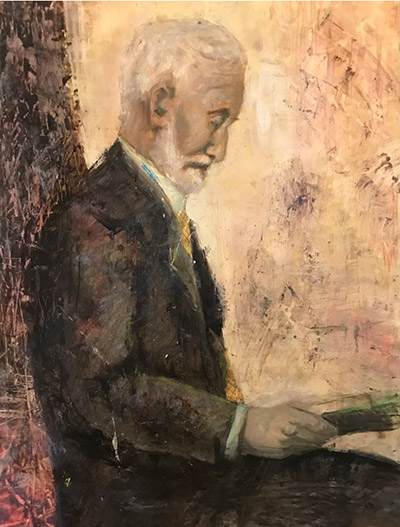
– Вы чудная, – в десятый раз повторил я и отчётливо понял, даже решил, что она будет моей, может быть, уже сегодня.
– Женщинам бывает очень нелегко, – не останавливался я. – Я согласен с вами: между мужчиной и женщиной есть нечто большее, чем то, что происходит.
Сошли в Лазаревском.
Ровный, свежий ветер дул, обдувал лицо. По морю скакали миллионы белых барашков. Тени тополей присели на корточки. Песок растаял как галлюцинация – весь пляж был выстлан спинами, ногами, бёдрами, выставленными вверх коленками, и у подножия этого скопища млело море.
По пыльной каменистой тропинке мы поднялись к белому пятиэтажному зданию санатория.
Расставались у входа. Рисуясь и играя в непринуждённость, я вкушал приступы возрастающей тревоги – страшно было уходить и оставлять её. Погрустнела и она, и теперь казалась ещё чуднее и зазывнее. Рука непроизвольно потянулась поправить на её плече спортивную сумку, и она поняла, и подалась навстречу. Ветер волновал русые волосы, и они щекотали мне щёку. Я быстро поцеловал её в губы и улыбнулся, будто бы дружески и покровительственно обозначая своё по старшинству право думать и заботиться о ней. И сказал весело, словно напомнив давно условленное:
– Вот здесь в восемь вечера я буду ждать вас.
– Хорошо, – доверчиво отозвалась она и дотронулась кончиками пальцев до моих губ, а потом своих, как будто сняла поцелуй, и от этого у меня едва не разорвалось сердце.
Через сорок минут электричка несла меня в Сочи.
Там, в санатории «Южный», вот уже пятый день отдыхала моя жена. Вчера я позвонил из Краснодара и предупредил, что выезжаю на побережье и по пути заеду к ней.
В этом году мы решили провести часть отпуска врозь. Не потому, что надоели друг другу. Так, дань моде.
«Может быть, останешься у меня? Место найдем…» – упрашивала она, чуть растягивая слова, и от этого голос её казался по-детски обиженным.
– Ты же сама предложила.
– Теперь бы не предложила.
– Нет, не могу. Мне надо в Новороссийск, а потом меня в Кабардинке Сергей ждет. Ты же знаешь.
– Знаю, – сопротивлялась она, – но мне одной плохо.
– Подцепи кавалера. Небось, зарятся. Ты у меня девочка заметная.
Захотелось представить, как ей может быть одиноко. Мы с трудом достали путёвку в это лечебно-оздоровительное учреждение в летний сезон. Каждый вечер кино, танцы. Кольнуло при мысли, что моя жена будет развлекаться без меня и наслаждаться тем, что может предоставить курортный город. Но это тут же улетучилось. За годы супружества я разучился представлять жену чужой женой. Она вросла в меня, стала частью меня самого, как боль в пальце, как голос, как дыхание. А главное, – и в этом не хотелось признаваться даже себе, – я тоже приобретал некоторую свободу.
«Неизвестно, чем она там занимается…» – повторял я про себя. Впрочем, эти мысли были как бы посторонние мне, и я легко убедил жену, что оставшиеся десять дней она весело дотянет одна, а потом я её заберу. И спасу от скуки и одиночества.
Я вёз забытые ею плащ, зонт и несколько книг.
«Туда и обратно» – крутилось в голове.
И уже подтачивала досада на собственное решение заехать в Сочи. «Можно было бы сделать это и потом. И меня уже не смущало, что это «потом» связано с поморкой.
Ничто не мешало позвонить, придумать благовидный предлог и предупредить, что мой приезд отлагается на сутки. В Гезель-Дере я едва не перебрался на встречную электричку, несущуюся в сторону Лазаревского, где меня должна была ждать северянка. Но, скрепя сердце, преодолел искушение. Я привык выполнять обещанное, если это зависело от меня.
Пять лет назад жрица ЗАГСа унизала безымянный палец моей руки знаком моей добровольной несвободы, и с того памятного дня я не единожды приближался к тому, чтобы изменить жене. Но не делал этого, наверное, потому, что всё зависело от меня, и этого мне вполне хватало. Когда же в тесном дружеском кругу заходил разговор о женщинах, я вёл себя так, что можно было предположить, будто и мне знакомы женщины, помимо жены.
Воображая чужих женщин, я вполне допускал для себя всё. Поэтому хотел быть справедливым и по отношению к жене, и мне казалось, что я справедлив. Чьи-то жёны изменяют с моими друзьями, с незнакомыми мне мужчинами, и когда-нибудь этой «чьей-то женой» может стать и моя. Может быть, это даже и случилось – никогда нельзя быть уверенным до конца. «Всё может быть», – думал я, не очень-то этому веря. Вот это и было то, что я понимал под справедливостью по отношению к жене.
Вспомнилась женщина из Поморья. Скоро восемь часов, и я увижу её. Что будет потом, я не знал, и не хотел об этом думать. Она уже приобрела надо мной власть. Чем больше я старался понять её происхождение, тем более она укреплялась. Я хотел разобраться, как всё это выглядит и как мне быть, а в итоге получалось, что надо меньше об этом думать и всё станется само собой.
«Что ж, – рассуждал кто-то моим голосом, – никто не обязан всегда быть разумным. Счастье состоит в том, чтобы быть самим собой. Значит, и безрассудным. Да, безрассудным и глупым, если ты безрассуден и глуп».
И тут же родился афоризм: безрассудство безгранично, а счастье коротко.
Эта, пока еще не ставшая крылатой, мудрость, как щит, оградила меня от сомнений.
И ещё вспомнились мои безумства, когда моя жена была ещё не жена, а недоступная студентка с третьего курса.
Это были самые сумасшедшие дни в моей жизни. Особенно, когда её едва не увели.
«И куда это ушло?» – скальпелем сверкнуло где-то в недрах мозга. – Неужели это должно уходить?».
В те дни я молил бога, в которого не верил, чтобы всё это скорее кончалось. Как-нибудь, но кончалось, и я смог бы, наконец, усесться за хорошую книгу и дочитать её до конца, трепаться с приятелями за кружкой пива, таскаться по дискотекам, знакомиться с девчонками.
И вот теперь меня поедом жрала зависть к тем жутким дням: пожалуй, они-то и были самые счастливые в моей жизни.
И это незаметно рассыпалось, усохло, ушло…
Ушло?
«К тому же, неизвестно, чем она там занимается», – продолжал уговаривать я себя, и это подправило настроение, и уже не хотелось ни ломать голову над «вечными и проклятыми» вопросами, ни оправдываться.
– Войдите, – отозвались на мой стук из двадцать четвёртой комнаты, и я толкнул дверь.
В просторной, светлой комнате пахло цветами, похоже, сиренью, хотя сирень давно отцвела.
– Вот её кровать, можете положить сюда, – махнула рукой статная, похожая на колхозного счетовода, женщина и спрятала что-то пёстрое в большую сумку, как мне показалось, лифчик необъятных размеров. – А её, знаете ли, нет. Ушла.
– Надолго?
– Не знаю.
Лёгкое раздражение рассеяло остатки сомнений. Ждать не буду. Сама виновата. В Лазаревское, в Лазаревское!
– Вы не могли бы передать записку?
–Отчего же нет, – пожала полными плечами соседка. Я перехватил её взгляд и рассмотрел то, что не бросилось в глаза сразу: букет роз на постели жены.
«Вот такое дело, – из лёгких стремительно улетучился весь кислород, – кто-то дарит ей цветы».
В первый миг я даже не удивился. Этого и следовало ожидать, потому что даже её соседка, немолодая женщина, дома никогда не облачилась бы в такое яркое, полупрозрачное платьице и не оголила бы настолько рыхлые руки, к тому же, ещё и розовые от перебора солнечных ванн.
Море есть море.
Я нагнулся над постелью жены и, убеждая себя, что делаю это без всякого умысла, чиркнул ладонью под подушкой. Там ничего не оказалось, и всё-таки сердце неприятно придержало ход: «И что ты хотел там найти, презервативы, что ли?». Глупость, невероятная глупость: если бы это и было, то, конечно же, не здесь. Я распрямился и вздрагивающими пальцами перелистал привезённый томик Андре Моруа. Женщина смотрела на меня, как мне показалось, с сожалением.
…Жену я обнаружил через полтора часа интенсивных поисков в компании мужчины южного типа, средних лет, с тоненькими усиками, в молодёжной рубашке с закатанными по локоть руками. Почему-то подумалось, что, скорее всего, его зовут Гарик, что деньги он хранит не в бумажнике, а прямо в кармане брюк. Они мирно беседовали под тентом за столиком с чашечками мороженого и бутылкой шампанского.
Жена подносила ложечку к губам и языком слизывала «пломбир», а незнакомец, улыбаясь, смотрел на неё и поощрял взглядом. На левом безымянном его пальце время от времени вспыхивал бриллиант, и я представлял, что он подаёт сигналы сообщникам, которые помогают ему заманить мою жену.
Но она не была похожа на обманутую. Она любила мороженое и, как обычно, лакомилась им не спеша, лукаво и несколько искоса оглядывая визави. Обычно я злился, когда мы навещали кафе, кряхтел, возился на стуле и торопил её. А вот сейчас она предаётся неге, и даже если просидит здесь до утра, этот тип точно так же будет расточать ей сладчайшие улыбки и восхищение.
А этот дядя держался свободно и, что больше всего разозлило меня, совершенно спокойно, как будто наперёд знал все, что произойдёт. Когда он шутил, то не наклонялся к собеседнице, чтобы тонкой улыбочкой сопроводить крупицы юмора, а откидывался на спинку стула и провожал шуточку значительным взглядом сверху, как будто он председательствовал на заседании и ему подобострастно внимали зависимые от него люди.
Первым порывом было ринуться к ним. Но я сдержался. И встал в засаду. Вслед за ними покинул кафетерий и преследовал их в некотором отдалении. Тёмные очки и белая фуражечка с пластмассовым козырьком скрывали черты моего лица, и едва ли она узнала бы меня. Солнце тяжелело к горизонту, пляжники покидали берег, и я мог, смешавшись со встречными, приблизиться к ним.
Мой соперник, склонный к полноте, но ещё довольно крепкий и стройный, прихрамывал. Он время от времени совершал движение рукой, как будто вот-вот коснётся талии спутницы. Я жмурился и шептал: «Ну, облапь её, гад…», – и ненавидел в этот миг обоих.
Жена несколько раз порывалась уйти, и меня неприятно поражало то, что этот хмырь приобрёл влияние над ней и удерживал. Незнакомец деликатно придерживал тонкую ладошку жены и в чём-то убеждал. Она отрицательно покачивала головой. Он наклонился с намерением поцеловать запястье очаровательной даме, но она рассмеялась и не разрешила. Они расстались.
Мне давно не приходило в голову, что моя жена может самостоятельно быть с другим мужчиной, о чём-то с ним говорить, выслушивать комплименты, уславливаться о месте встречи, принимать или не принимать цветы и подарки.
Этот мужчина внимателен к ней. А ведь ей всего двадцать пять лет. Я тоже внимателен к жене, но давайте признаем, что далеко не так, как когда-то. Того, что было раньше, уже нет.
«Неужели всё уходит и ничего не остаётся?»
Всё приходит и уходит, и, как писали в старинных романах, моё сердце сжалось от предчувствия, что я вижу её в последний раз. Где-то, окутанные смутным маревом, оставались маленькая северянка, весёлая дорога к морю, запланированное на восемь вечера рандеву. Всё это теперь осталось далеко, как северное сияние. Я пытался установить реальность фразы «всё приходит и уходит» и сопоставлял её с тем, что жена, может быть, задаёт себе этот же самый вопрос.
Я сбежал с тротуара, чтобы не столкнуться со встречными прохожими, и вприпрыжку семенил за голубым платьем, которое начиналось на обнажённых плечах, самых знакомых мне в мире женских плечах. Она торопливо стучала каблучками белых босоножек по асфальту, наклонив голову и совершенно не следя за своей походкой. И я подумал, что довольные собой, изменяющие жёны ходят не так. Я сочинял слова для неё, а на ум являлись банальности, и я со страхом отметал их и торопливо придумывал новые.
Пальцами коснулся её плеча и отдернул ладонь, как будто это было чересчур – дотрагиваться до плеча своей жены, и ощутил под коленками слабость – предвестницу первобытного, пещерного страха, совсем как в те времена…
Она оглянулась и удивлённо молчала. Милая, прекрасная, незнакомая – боже мой, руки стынут.
И поцеловал её, и подленькое, мелкое ликованьице – вот бы этот тип с усиками увидел нас – не преминуло на мгновение посетить меня.
И, взяв за талию, крепко прижал, как делал давным-давно, когда она ещё не была моей женой и мне нужно было каждую секунду знать, что она рядом и никогда никуда не исчезнет.
О бочке с килькой
Давно подмывало написать об этом. Обдумывал детали, придумывал фразы. Лучше всего сочинялось в автобусе, когда я возвращался из Ставрополя в Минеральные Воды, и за окном было темно и холодно, и спать не хотелось.
Как награда, выстраивались точные подлежащие и сказуемые, и даже иногда прилагательные, их предстояло запомнить. Второй раз такие слова не придут, а если что и придёт, то это будет не так плотно слито с тем, что было. И вот пишу и убеждаюсь, что так оно и есть.
Я навсегда уезжал из Краснодара, из «Комсомольца Кубани», в котором меня любили (не все, конечно) и баловали, и чего-то ждал от предстоящего разговора, но он не получился.
Отправление через час, и настала минута прощанья. В комнате, кроме нас с Владимиром, оставались две бутылки вина, Анжела, Зойка, Сашка и грязные стаканы, из которых пили томатный сок, а потом разливали в них вино.
Владимир был слегка пьян, может быть, даже здорово. Впрочем, это почти ничего не значило: по нему никогда не скажешь, пьян он или нет. Он умел пить. Или держаться. Одно из двух.
Мы шли вдвоём. Начиналась одна из последних в уходящем году ночей. Ветер клубил предновогодние снежинки. Володя вышел без пальто и шапки.
– Я не зря работаю в отделе информации, – сказал он, – я всё про тебя знаю. Я даже знаю, что ты обо мне говорил. Но, несмотря на это, я хорошо к тебе отношусь.
– Мне приятно, – возразил я. – Только я о тебе плохого не говорил.
– Неважно. Что бы ты ни говорил, это ничего не портит. Я хочу тебе сказать: ты талантливый человек. Это главное.
Нетрудно догадаться, как нелегко он решился выговорить это. Наверное, он это сделал потому, что мы прощались, и я уезжал, возможно, навсегда. А я ждал от него этих слов. Он не сказал мне больше, чем мне было известно о себе. Но в последнее время я перестал доверять своей оценке. И он сказал, и ему я поверил больше, чем себе.
– И все-таки, – не соглашался я, – я не хочу принимать такой комплимент. Я о тебе плохого не говорил.
Это обстоятельство задевало меня. Я давно знаю, что могу говорить гадости, но не о нём.
С тех пор я ещё раз хорошенько перетряхнул память. Нет, он неправ.
«Желаю тебе счастья...».
Был порыв сбросить шапку и обнять его. В воображении возникла картинка, как это выглядело бы со стороны. И это всё испортило. В таких вещах воображению не следует забегать вперед.
Мы не были друзьями. Могло быть взаимное любопытство и уважение. А когда-то могло быть и взаимное недоверие. Он мог не доверять моему многословию, особенно в первых очерковых попытках. Он тонкий стилист, и это мешало ему быстро установить величину и направление того, что было во мне первичным и оставалось невысказанным.
А я не доверял его подчёркнутому стремлению писать скупо. Мне требовалось больше места и движений для размещения своих наблюдений, чем было отпущено оригиналам в жизни, но к пониманию этого приходишь не сразу. Он же покушался на чужие тексты, и не было напечатано в газете ни одной вещи, которую все хвалили бы на летучке, чтобы он сурово не обронил: «Можно было ещё сократить». А в своих репортажах он страстно выпалывал каждое лишнее слово. Мне это казалось подражанием Хемингуэю. Как и трубка, которую он иногда запаливал, и его всегдашняя готовность принять порцию горячительного, и неотвратимые встречи и разговоры со знакомыми и незнакомыми, которых не перечислить. Для меня в этом было что-то показное, как хемингуэевский стиль жизни.
Если тут и присутствовал Хемингуэй, то очень давно, и всё, что осталось в нём, уже было своё. Или стало своим. Попросту же он делал то, чего не мог не делать.
Да кто же во всём этом сразу разберётся?
Да, много теперь можно отыскать причин, которые удержали меня и заставили всего лишь протянуть руку: «Ну, бывай...».
Ещё я хлопнул его по плечу. То есть старательно и очень замедленно толкнул его. Это была уловка, поиск предлога проститься по-русски: обнять и поцеловать.
Не получилось.
И позже, пока шёл до остановки, я думал только об этом. Мучения умножились, когда автобус тронулся и совсем легко возникли в памяти подробности расставания. Как укор, вспомнилась описанная Герценом встреча с Аксаковым. Статья, разделившая московскую интеллигенцию на враждебных славянофилов и западников, была опубликована в журнале. Эта публикация разводила их. Они случайно встретились на Невском. Остановились, вышли из саней. «Это все, Александр Иванович, – грустно сказал Аксаков, – наш дом закрыт для вас». Они обнялись, по-русски трижды поцеловались и разошлись навсегда со слезами на глазах.
Да, слёзы были и в автобусе, и потом...
Но это, так сказать, присказка. Всё, что пока рассказано, сделано с одной единственной целью: приблизить воспоминание совсем другого дня. Это как попытка отыскать в наших отношениях моменты человеческой близости, соприкосновения, которые бы значили больше, чем могло показаться при поверхностном взгляде. И когда я нашёл такое, мне стало легче возвращаться...
...Был ли это едва осязаемый дождь, или это море выдыхало изморось, которая ложилась на плечи, волосы и обволакивала луч прожектора? Было темно, море вполголоса разговаривало с собой, и было оно как будто из нефти, немного масляное и скользкое.
Место называлось Малый Утриш. Мы приехали к директору устричного хозяйства и ждали его.
В воду уходили трапы. Окружённое с одной стороны забором, с другой – морем, на берегу располагалось рыболовецкое хозяйство. Баркасы ушли в море, и на причале было пусто. На берегу, прямо на камешках, стояли бочки, много бочек. Одна из них, набитая блестевшей килькой, была открыта.
Мы всего лишь ждали директора, но получился прекрасный вечер.
Надо брать кильку за хвостик, поднимать высоко руку и запрокидывать голову. Килька становится похожей на рыбку, которую только что вытащили из воды, разве что не трепыхается. Перед тем, как опустить кильку на язык, надо ещё раз вдохнуть сырой воздух, захватив губами влажную морскую пыль. И уже после этого вытирать жирные пальцы о газету – и скоро она станет просвечиваться. А потом отламывать кусочек от убывающей буханки и всё это захлебнуть добрым глотком сухого вина. Под Анапой мы достали канистру рислинга, хлеб купили в посёлке Сукко. Мы имели всё, что необходимо.
– Замечательно, – несколько раз проговорил он и улыбался, что-то думая про себя.
– Скажи, правда хорошо? – спросил он тихо меня. Ему, наверное, очень хотелось, чтобы его беспокойство оттого, что всё это случайно, мимолётно и так ненадёжно, и этого больше никогда не повторится, передалось и мне.
Я молчал и только кивнул. Да, это было очень хорошо, и лучше всего это понимать кожей и молчать.
Площадку освещали плоским, угасающим и как будто односторонним светом фонари. Все было видно «сюда» и ничего «отсюда». Несколько раз к нам подходил пьяненький сторож с внуком и собакой. Собака обнюхивала нас, внук отказывался выпить, а сторож, всякий раз вытирая рукавом губы, говорил: «Всё, пойду сосну часок...».
Мы хорошо поболтали с ним, да ещё угостили его сигаретами, а он предлагал нам маленький бочонок с килькой, и мы даже попробовали затолкать его в багажник «Волги», которую сторож пропустил на территорию, но бочонок не влез.
– Нет ничего лучше, чем стоять здесь, около этой бочки в такой вечер и есть кильку, – мечтательно повторил он.
Эта фраза насторожила меня. При мне он однажды уже говорил о чём-то, лучше чего на свете нет. И тогда он тоже скупо восторгался и соглашался именно так прожить всю жизнь и верил своим словам. Так оно и было, и в тот день не было на свете ничего лучше, чем то, чего я теперь не могу вспомнить. Как сейчас не было ничего лучше морского берега, бочек с килькой и вина. В его словах ни тогда, ни сейчас не было неправды ни перед кем.
– Тебе нравится вечер? – спросил он, внимательно разглядывая меня.
– Ничего вечер.
Вечер был похож на горсточку мелких, остреньких, масляных гвоздиков, когда продавец хозмага вынимает их щипцами из ящика, и они приглушённо шлёпаются на чашу весов. Эти гвоздики втыкались в меня, я был занят ими, и что я мог ещё сказать? Об этом не скажешь...
– Нет, ты согласись, что вечер замечательный...
Я никогда ни с кем вслух не соглашался. Особенно о таком.
Он налил мне в стакан вина и сказал: «Выпей за этот вечер...».
– Не хочу.
Я только что выпил и не люблю и не могу пить подряд много вина.
– Ты сегодня мне не нравишься, – предосудительно покачал головой он.
– Я не считаю своим долгом нравиться тебе.
Я не ожидал, что он может сказать такое. Никогда не ожидал от него. Но он сказал...
– Такой вечер, – он прислушался к тому, что вызревало в нём, – ты посмотри, ты послушай, и эта килька, и это вино, и море..., – он маленькими глотками прихлёбывал вино и пока ещё старался понять меня. Но было видно, что ничего интересного уже не ждал.
Я переоценивал его готовность понять меня.
Мы почти ровесники, но мы – дети разных поколений. И не случайно он любил Булата Окуджаву, а я всего лишь ценил его.
Бард моей юности – Высоцкий, я так же, как и он, боюсь окончательной честности, когда в словах нет никого, кроме тебя, и держу под рукой дежурную маску.
– Тебе скучно и неинтересно, – вынес он приговор. Это была неправда, которую невозможно опровергнуть. Но была у меня и своя правда, и она заключалась в том, что я был и не был на берегу. Были слух, зрение, обоняние и память, и им требовались тишина и отдалённость, как фотографу красный свет. У меня бывают минуты, когда я становлюсь робким, застенчивым, даже испуганным, я теряю способность обнаруживать себя. Мыслью, голосом, согласием, отрицанием. Я слушаю и живу этим, и мне больше ничего не надо.
– Послушай, старик, – начал я, – я человек сложный...
Мне хотелось многое объяснить. Когда объясняешь – и себя лучше понимаешь, хотя надеешься, что понимают тебя. Я сказал совсем немного, потому что это было бесполезно – на берегу моря произносить длинные речи. Но и то, что было сказано, оказалось лишним. Слова в тот вечер не шли в расчёт.

Простоватый фотокорреспондент Жора повторял его слова «замечательно», «прекрасно», «лучше всего на свете». Так же, как и он, смакуя, глотал кильку и не сразу пил вино, а сначала обводил всех взглядом, как бы обращаясь ко всем с тостом. И когда Владимир разделся и полез в холодное октябрьское море, Жора последовал за ним, как ученик за апостолом, и шумел при этом. Он повторял за ним всё как попугай, и меня это раздражало.
Получалось, что есть два человека, которые думают одинаково и правильно – это они. И есть брюзга, не умеющий ценить истинное человеческое – это я.
– Сложный человек, – обиделся за него Жора. Он несколько раз повторил эти слова, и они приобрели нелепый и даже смешной оттенок. Так всегда бывает, когда вслух обсуждают то, что ещё предстоит понять.
Но он не понял – на Жору же я и не рассчитывал.
Они смотрели на меня, как на лишнего.
И когда мы возвращались в Краснодар и где-то на полпути они остановили на шоссе машину и вышли со стаканами, и я тоже высунулся в дверцу, меня поставили на отведённое мне место: «можешь сидеть, тебе это не надо...».
Это было, и этого не изменишь. Вечер на самом деле был хорош, и я с удовольствием вспоминаю его, и немного жалею, что нам не удалось понять друг друга. Поэтому, наверное, очень часто мне хочется напомнить ему, как всё было, не упустив мелочей, и, когда он насладится воспоминанием, cказать: «Согласись, старик, что ты тогда напрасно катил на меня бочку...».
Иллюстрации:
студенческие работы дочери автора Софьи Красули,
(Ставропольское художественное училище).
© Василий Красуля, 2023.
© 45-я параллель, 2023.
