Маленький граф, держась за руку немолодой женщины, вошёл в одну из отдалённых комнат замка. Он ещё ни разу тут не был.
Комната выходила окнами на юг и явно была нежилой: здесь не было никакой мебели, кроме пары небольших кушеток для сидения; но в воздухе не чувствовалось затхлости и пыли – вероятно, убирать и проветривать в комнате не забывали.
Но самым главным – и самым интересным – были вытканные картины, развешанные по стенам (ковры это были или гобелены – мальчик не знал).
Маленький граф тотчас отпустил руку своей провожатой и медленно, как заворожённый, пошёл по комнате, то и дело останавливаясь и жадно вглядываясь в каждое нитяное изображение. Женщина присела на кушетку под окном. Со стороны могло показаться, будто она не разделяет интерес мальчугана к картинам, – но более внимательный взгляд быстро бы понял, что она просто видит их не в первый раз, а впечатления маленького спутника для неё гораздо важнее.
 Наконец он подошёл и уселся рядом.
Наконец он подошёл и уселся рядом.
– Что это за люди, на́нни? Они из сказки? Я таких ещё не читал.
– Нет, милый. Из жизни.
– А кто их делал?
– Кетлин-ткачиха. Не слышал о ней?
Мальчик мотнул головой.
– Расскажешь, нанни? Она жила здесь?
– Нет, в одной деревеньке в горах… Но это было давно.
– Когда ты была маленькой, да?
Женщина сдержанно улыбнулась и притянула ребёнка к себе. Она приходилась ему тёткой, но едва ли не все обитатели замка за глаза называли ее «тётушка-нянюшка»: старшая сестра нынешнего владельца замка, рано овдовевшая, в этом мальчике она нашла главную отраду своей затухающей жизни – хотя к её спокойной любви примешивалось мало слепого обожания (а точнее сказать, не примешивалось вовсе).
– Тогда даже твоего прапрапрадедушки на свете не было…
Маленький граф попытался вслух сосчитать все эти «пра», но сбился и, смущенно прыснув, снова принялся упрашивать тётю, чтобы та поведала ему о ткачихе Кетлин и о вытканных людях на стенах.
– Это грустная история, милый.
– Всё равно расскажи.
– А плакать не будешь?
Мальчик сдвинул брови, словно размышляя над вопросом тётушки, но затем торжествующе заметил:
– Ты же меня для этого сюда привела!
Женщина ответила мягкой улыбкой.
– Тогда слушай…
…Искусница Кетлин жила когда-то в маленькой горной деревушке, от которой давно уже не осталось ни камня, ни названия. Едва ли кто-то из её земляков мог прочесть или вывести на бумаге хотя бы одну букву. Имена родителей Кетлин тоже канули в небытие; а имена братьев и сестёр… полно, а были они, эти братья и сёстры?
Может, и были; но до взрослых лет – дожила одна Кетлин. От кого она переняла своё ремесло? От матери, наверное… или даже от бабки: говорили, что они обе слыли знатными мастерицами, – но Кетлин в своём искусстве превзошла их обеих. Она едва-едва из девочек в девушки перешла, – а в доме ей уже отвели отдельную комнатку, чуть ли не половину которой занимал ткацкий станок.
И если бы обычные сукна или холсты из-под её пальцев выходили! Если бы просто узоры, украшающие платья деревенских девушек в праздники! Такая невеста от женихов бы отбою не имела, но… за Кетлин как-то никто не сватался. На гулянках и танцах её видели редко; а если она и приходила, то тихонько сидела в стороне и просто смотрела на веселящихся своими молчаливыми серыми глазами (почему-то серые глаза всегда молчаливы – не замечали?). Она вообще мало с кем заговаривала – и даже здоровалась с обитателями деревни чаще всего простым кивком или поклоном. Немудрено, что молодёжь её сторонилась, а кто понаглее – посмеивался над Кетлин у неё за спиной (в лицо всё-таки не решались): «Кетлин-из-кельи», «Кетлин-за-петли» – такие прозвища обычно давали ей за глаза, но едва ли она о том знала. У молодой ткачихи не было близких подруг, которые могли бы ей об этих пересудах донести.
 – Гордячка, – говорили некоторые.
– Гордячка, – говорили некоторые.
– Полоумная, – пожимали плечами деревенские сплетники, не слишком-то вникая в то, что тихая, всегда держащаяся на особицу девушка вовсе не обязательно должна быть полоумной.
Степенные соседи, заходившие иногда в дом к родителям Кетлин, удивлялись другому:
– Ты, Кетлин, похоже, весь мир выткать намерилась!
– Ой, гляди, соседка – оно к добру не приведёт…
Действительно, любой сельской рукодельнице было далеко до того, что делала Кетлин. Горные перевалы, которые жители деревни видели изо дня в день и привыкли к ним, как к собственному дыханию, – тёмный лес на склоне горы и прорезавшие его тропинки, – птичьи стаи, осаждавшие старую рябину в конце зимы, – белые клювы подснежников, проглянувшие после ухода холодов, и поздневесенняя кипень деревьев, – всё это Кетлин как будто собирала себе в рукава и за пазуху, идя по родному селению, чтобы потом переплетать с утко́м и основой и оставить на полотне. И вытканные Кетлин горы, цветы, деревья и птицы – были почти живыми и мало чем отличались от настоящих. Разве что трава не колыхалась и цветы не пахли… но тому, кто долго смотрел на работу Кетлин, вдруг начинало казаться, что он и запах слышит, и колыхание замечает…
Земляки не видели в искусстве Кетлин особой пользы. Поэтому отец девушки отвозил её тканьё в город, в долину: когда горожане устраивали там большую ярмарку, на торг съезжались люди небедные, и всегда можно было найти покупателя. Бывало даже, что за вытканное Кетлин живое полотно вели спор: кто больше даст…
Назад отец всегда приезжал с гостинцами и товарами, купленными там же на вырученные деньги. С монетами за пазухой он путешествовать опасался: хоть и не славились тамошние места лихими людьми, но мало ли что прячется в лесах, растущих вдоль горной тропы?
Но однажды на этой тропе за отцом молчаливой Кетлин увязалась беда. Он откуда-то возвращался один и хотел успеть домой до темноты; но густой туман, окутавший горы в тот вечер, сбил его с пути. Отец спешился, понадеявшись на собственные глаза и ноги… Больше его не видели: наутро отцов конь пришел к дому без седока. Полдеревни отправилось в тот день на поиски, но они ни к чему не привели: должно быть, отец Кетлин разбился, сорвавшись в туманных сумерках с крутого уступа.
Мать Кетлин удара не вынесла: за месяц-другой превратилась в немощную старуху и быстро угасла. Оставшееся ей время жизни она тенью ходила по дому, не в силах заниматься хозяйством, и часто целые часы просиживала у окна, словно ожидая, что муж её вот-вот появится на дороге. Если кто-нибудь навещал вдову в эти дни, то обычно становился свидетелем её бесслёзного горя и бесплодного ожидания, которое протекало под один и тот же звук: в «ткацкой» комнате Кетлин постукивали бёрда – свою дверь она держала открытой. Время от времени мать подходила к дочери, смотрела на изображение, сплетавшееся из нитей, качала головой – и опять возвращалась к окну.
Скорби самой Кетлин не видел никто. Поговаривали даже, что она по отцу совсем не горюет: ни слезинки же не пролила, – пока кто-то из деревенских, проходя мимо дома Кетлин, не заглянул в окошко её комнаты и не увидел на почти вытканном полотне то, что её мать так и не дождалась увидеть въяве.
Похоронив мать, Кетлин стала ещё более тихой и замкнутой, чем прежде; даже когда соседи приходили к ней с помощью или соболезнованиями, она отвечала или благодарила так сдержанно и коротко, словно сами слова ушли от Кетлин вслед за её родителями. Казалось, её молчаливый серый взгляд был направлен совсем не на пришедших, а мысли Кетлин стремились – не то за черту земной жизни, не то… к её всегдашней работе.
Вскоре Кетлин пооставили в покое: и сочувствие, и пересуды улеглись, и жизнь её внешне замкнулась в стенах маленькой комнаты с ткацким станком посредине, в которую не было доступа больше никому. Она жила среди людей, но не с людьми, и любое появление Кетлин в кругу односельчан только подчёркивало её несвязанность с ними. Цветы, пестревшие почти круглый год в её маленьком садике (она находила время ухаживать и за ними), – птицы, мигом слетавшиеся к подоконнику Кетлин, как только она открывала окно, чтобы высыпать горсть хлебных крошек, – заяц, ёж или ещё какой-нибудь мелкий зверь, случайно перепутавший границу родного леса с человеческими «владениями», – все они понимали Кетлин лучше и были для неё роднее, чем её собственные земляки. Впрочем, последние, увидев себя отодвинутыми на невидимое расстояние, постепенно проникались к одинокой мастерице чем-то вроде уважения, – вернее, не признаваясь в том сами себе, в глубине души её побаивались. То ли беззащитность юности постепенно сошла с Кетлин, то ли её молчание и таинственный труд делали своё дело.
Поэтому жители деревни едва ли удивились или испугались, увидев однажды, как Кетлин спускается одна по тропе – той самой роковой тропе – в город, неся в руках что-то, завёрнутое в чистый холст. Её не стали окликать и останавливать – а если и подумали, как же она преодолеет пешком такое расстояние, то вслух ничего не сказали.
Но Кетлин вернулась, – и вернулась благополучно. С тех пор её отлучки в город стали обычным, хотя и нечастым делом: видно, в долине о мастерице из горного селения прослышали давно – когда ещё её родители были живы. Больше удивило сельчан появление в деревне двух хорошо одетых горожан, начавших расспрашивать, где ткачиха Кетлин живёт. Новые лица появлялись в деревушке нечасто и всегда становились настоящим событием, поэтому проводить их мигом нашлись доброхоты, – которые потом стояли поодаль и глазели сколько влезет, да ещё и обсуждали пришлецов несколько дней подряд.
Первый из гостей, постарше годами, был то ли одним из городских купцов, то ли служил приказчиком у кого-то из местной знати. Его спутник – не то любимый слуга, не то помощник – был на вид примерно тридцати лет. Лицо у него было умное и дружелюбное, но испорченное одним изъяном: чуть ли не треть правой щеки занимало тёмное родимое пятно. Впрочем, молодой человек был из тех, чьё телесное несовершенство окружающие не слишком-то замечают – потому что его не замечает он сам.
Потом ещё несколько раз он появлялся в деревне, но уже без старшего спутника – очевидно, забирал вытканные Кетлин заказы и приносил ей, что за труды причитается. Если погода была хорошая, то Кетлин подавала ему нехитрый обед прямо в саду: наверное, не хотела возбуждать в соседях нечистое любопытство и лишние перешёптывания. О чём они говорили, сидя под старыми деревьями, – только эти деревья, наверное, и слышали. Но если бы кто-нибудь оказался рядом с этими двумя, то от него бы не укрылось, как светлеют молчаливые серые глаза Кетлин при взгляде на посыльного с родимым пятном на щеке, – и как этот свет отражается на лице гостя.
Именно от него Кетлин – первая в деревне – узнала о приближающейся войне: последний приход молодого человека грозил стать по-настоящему последним.
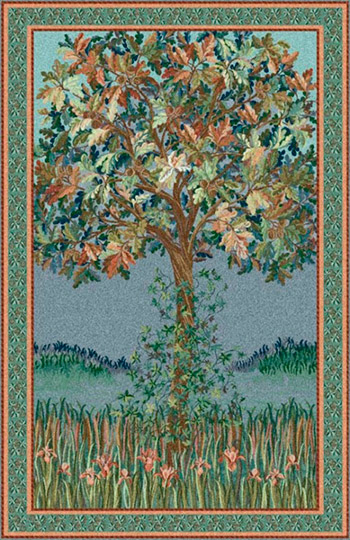
… – А кто с кем воевал? – спросил вдруг мальчик-граф, до этого слушавший не перебивая. – На нас напали?
– Ну, – усмехнулась тётушка, разводя руками, – неужели разберёшь по такой давности, кто на кого напал… Тогда войны велись куда чаще нынешнего. – Она помолчала и добавила совсем другим голосом: – Запомни, милый: люди всегда воюют с людьми. По-другому не бывает. А кто и с кем, за что и чей арбалет выпустил первую стрелу – не так уж это и важно…
…Вскоре волна войны дошла и до земляков Кетлин: полтора или два десятка мужчин покинули деревню, чтобы присоединиться к войску. Когда они проходили мимо дома ткачихи, она выбежала в сад и, прильнув к изгороди, молча провожала их взглядом.
Самый молодой из будущих ратников хмыкнул, обращаясь к товарищам:
– Гляньте-ка – Кетлин-из-кельи выползла… Эх, не видать нам теперь удачи!
На него сурово зашикали:
– Ну, ты! Чего плетёшь!..
После ухода воинов Кетлин почти не покидала своего дома – и почти не отходила от ткацкого станка. Утром ли, вечером ли заглянет прохожий в её оконце – а там всё то же: стучат бёрда, сплетаются нити, Кетлин склоняется над своей вытканной повестью – такой же молчаливой до поры до времени, как и она сама. И её односельчане, придавленные тревожным гнётом отсутствия вестей, понемногу начинают верить: пока сидит Кетлин в своей ткацкой комнатке, пока бежит её нить – ничего им не угрожает.
Однажды вечером Кетлин, выйдя в сад, зачем-то открыла калитку настежь.
– Эй, Кетлин! – окликнула её соседка, высунувшись из окна. – Время запирать ворота, ночь идёт – а у тебя всё нараспашку! Или ждёшь кого?
– Ночь идёт, – тихо повторила Кетлин и, ни слова больше не говоря, ушла в дом. В ту ночь в её окне всё подрагивал огонёк свечи: Кетлин дольше обычного сидела за работой, словно боясь не завершить её в срок.
А утром, в ещё не рассеявшейся дымке, – на тропе, ведущей в деревню, показались копья и шлемы: целый отряд превосходно вооруженных воинов, говор которых сразу выдавал в них чужаков.
Война, на которую ушли земляки и возлюбленный Кетлин, оказалась проигранной.
Сон и покой маленькой деревни были грубо прерваны: солдаты врывались в дома, забирали всё, что ни приглянется, – а если кто-то сопротивлялся грабежу, недолго думая пускали в ход оружие.
Открытая калитка, ведущая к домику Кетлин, привлекла внимание командира и одного стрелка – с низким голосом и широкими плечами.
– Айда!.. – крикнул тот, махнув рукой в сторону жилища ткачихи.
Дверь ломать не пришлось: Кетлин и её оставила незапертой – широкоплечий стрелок ударил по двери ногой, и она тотчас распахнулась со скрипом, похожим на негромкий стон. Ворвавшиеся в дом удивленно огляделись, не увидев ни души, хотя помещение явно выглядело жилым. Но дверь в ткацкую комнату Кетлин не запирала никогда – и незваные гости заметили её, сидящую возле станка не шевелясь и в какой-то странной позе. Хозяйка дома не обернулась, ничего не сказала и, казалось, вообще не видела непрошеных гостей.
Оба они вбежали к ней, и стрелок уже наставил на Кетлин свой арбалет… как вдруг командир крепко схватил его за руки и с силой дёрнул их вниз. Стрела неловко впилась в дощатый пол.
– Ты что?!.
– А ты что? Не видишь?! Она же… – Он не договорил и, осторожно приблизившись к недвижимой Кетлин, поднёс ладонь к её лицу.
Когда остановилось сердце Кетлин – то ли среди ночи, то ли на рассвете, когда в её деревню ворвались захватчики? Но нить своего последнего полотна она дотянуть успела – до того, как оборвалась нить её собственной жизни.
Командир повернулся к ткацкому станку – и застыл от изумления. Его спутник был поражен не меньше.
На полотне они увидели… самих себя – несколькими минутами назад. Два воина стоят на пороге какой-то комнаты, и один не даёт другому выпустить стрелу в женщину, сидящую возле ткацкого станка.
– Ты смотри… – прошептал арбалетчик, наконец оглядевшись по сторонам.
Вдоль стены была протянула верёвка – вроде той, на которой обычно сушат бельё; но на ней вместо полотенец и простыней была развешена – вся жизнь Кетлин, перенесённая на полотно: деревенский житель, идущий в тумане по краю обрыва… старая женщина в чёрной вдовьей одежде сидит возле окна, будто ожидая кого-то… молодой горожанин (судя по платью) с тёмным пятном на правой щеке стоит возле калитки… воины, в которых легко узнать местных жителей, идут строем по главной деревенской дороге… двое противников сошлись в смертельном, безнадёжном поединке… молодого горца уводят в плен… и всё тот же воитель с тёмным пятном на щеке направляет куда-то стрелу, наступая ногой на опустевший колчан.
– Помнишь? – хрипло спросил стрелок, указывая на последнее изображение.
– Да, – хмуро кивнул командир. – Я этого парня по пятну и запомнил. Он сражался храбро и… до последнего. Жаль, что мы встретились, как враги.
– А она?.. – стрелок указал на Кетлин.
Командир не ответил и снова перевёл взгляд на вытканные изображения. Затем заявил – твёрдо, будто отдавал приказ:
– Мы заберём все это. И только это. Слышишь? И больше – ни камешка отсюда не вынесем!
– А что ты со всем этим добром будешь делать?
– Отвезу в замок, – отрезал командир. – Барон и его жена оценят…
И уже на пороге напомнил:
– Имя… Узнай, как её звали! И вообще всё о ней расспроси! Тогда мы вернём взятое и не прольём здесь больше ни капли крови – клятву даю!
Командир своё слово сдержал. Так деревня, в которой родилась и скончалась искусница Кетлин, была в тот день спасена от разорения. Что было с её жителями дальше, вернулись ли с войны хотя бы некоторые из ушедших сражаться, почему селение в конце концов обезлюдело – об этом уже никто не расскажет. А изображения, вытканные Кетлин (в том числе и самое последнее, снятое командиром и арбалетчиком прямо с её ткацкого станка) попали в замок одного барона, который хранил их у себя какое-то время; а затем – то ли его сын, то ли внук преподнёс их в подарок (вместе с историей, разумеется) самому королю.
… – И они очень полюбились его младшей сестре… или младшей дочери – точно не помню, – сказала тётушка. – Она забрала их с собой, когда выходила замуж за одного из твоих предков. Так эта вытканная повесть попала в наш замок. И с тех пор здесь хранится.
Мальчуган, всё ещё находящийся под впечатлением от услышанной истории, опять подошёл к тканым картинам, изображающим войну и развязку истории Кетлин, долго-долго смотрел, а затем спросил:
– Но ведь она там не была… и не видела… Как же она узнала, что случилось с ним… и что будет с ней самой?
– Выходит, знала. – Тётушка произнесла это уверенно, словно готова была поручиться за сказанное.
– Откуда?.. – продолжал недоумевать маленький граф.
– А ты можешь сказать… откуда, например, приходит ветер? Или откуда в твоей головке берутся мысли? – женщина старалась сохранять серьёзный вид, задавая эти «взрослые» вопросы. – Знаешь? То-то же… В мире много тайн, милый, и не для каждой можно ключ подобрать…
Мальчик продолжал вглядываться в фигуры и лица людей на вытканных Кетлин полотнах, словно надеясь, что они сами поведают ему свою тайну… и вдруг осторожно погладил ручонкой старую ткань.
Нет, от этого жеста изображения не задвигались, не сошли с полотна… но маленькому графу отчётливо послышалось, что где-то рядом негромко постукивают деревянные бёрда.
Иллюстрации:
фотографии старинных гобеленов из открытых интернет-источников.
© Татьяна Воронова, 2022.
© 45-я параллель, 2022.
