(Четыре новеллы)
Танго
 Ты говорила, что это невозможно. Что лишь безумцы в одну и ту же реку входят дважды. Я не знал продолженья. Но в том, что река одна и та же, сомнений не было. Топкие берега с бритвами-листьями жёлтой осоки и сонными полупрозрачными птицами.
Ты говорила, что это невозможно. Что лишь безумцы в одну и ту же реку входят дважды. Я не знал продолженья. Но в том, что река одна и та же, сомнений не было. Топкие берега с бритвами-листьями жёлтой осоки и сонными полупрозрачными птицами.
Боль… Я не чувствовал боли. Я сжимал твою руку и старался не думать почти ни о чём, кроме жестокости. Той, что спасла тебя в прошлом. В прошлом, где просто была игра… и одиночество – как повод к перетряхиванию извилин от пыли. Где я был так же слеп, как сегодня, не понимая, что настоящая женщина должна быть жестока.
Движенье воды, и дюжина пляшущих лодок. Герои в твидовых пиджаках, с которыми ты забывала меня. Я клеил им номера, как лошадям в дерби, и мысленно давал гонг, заведомо зная, что серая лошадка твоей жестокости непобедима.
Лето, перечёркнутое дождями, просачивалось сквозь стебли. И лес, с плотной, бугрящейся от избытка сил корой, бесстыдно разглядывал нас.
Это было как танго, в котором страсть существует помимо движений. Полусонные птицы тыкались нам в ладони красными и жёлтыми клювами. И ты была слишком родной для того, чтобы всё это длилось по-настоящему долго.
Охотник
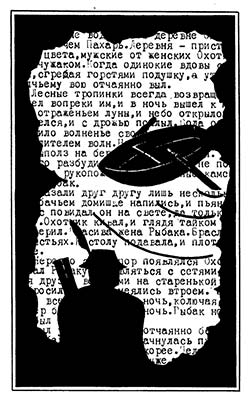 Когда-то он был… А так ли уж важно, кем был он? Охотник… Теперь он Охотник. Красивые чучела зайца и утки всегда у него на ремне. Неважно, что заяц и летом предательски бел, а утки в окрестных лесах отродясь не водилось. В деревне охотник не хуже, чем мельник, и даже не хуже, чем пахарь. Деревня – пристанище хмурых людей. Их лица землистого цвета мужские от женских Охотник едва отличал. В деревне он был чужаком. Когда одинокие вдовы стучались к нему по ночам, он плакал, сгребая горстями подушку, а утром в лесу, откликаясь далёкому волчьему вою, отчаянно выл.
Когда-то он был… А так ли уж важно, кем был он? Охотник… Теперь он Охотник. Красивые чучела зайца и утки всегда у него на ремне. Неважно, что заяц и летом предательски бел, а утки в окрестных лесах отродясь не водилось. В деревне охотник не хуже, чем мельник, и даже не хуже, чем пахарь. Деревня – пристанище хмурых людей. Их лица землистого цвета мужские от женских Охотник едва отличал. В деревне он был чужаком. Когда одинокие вдовы стучались к нему по ночам, он плакал, сгребая горстями подушку, а утром в лесу, откликаясь далёкому волчьему вою, отчаянно выл.
Лесные тропинки всегда возвращались к деревне. Однажды Охотник пошёл вопреки им и в ночь вышел к морю. Огромное море играло большим отраженьем луны, и небо открыло ему незнакомые звёзды. Охотник прилёг на прибрежную гальку и, глядя в глубокое небо, уснул.
Наутро его разбудил человек, ничем не похожий на хмурых крестьян. Улыбка. Забытое рукопожатье.
– Рыбак.
Сказали друг другу лишь несколько слов и стали друзьями. И сразу в рыбацком домишке напились, и пьяный Рыбак рассказал, что немало чудес повидал он на свете, да только ещё не поймал свою главную рыбу. Охотник кивал и, глядя тайком на упругие бёдра жены Рыбака, не верил. Красива жена рыбака. Браслетов жемчужные зёрна на тонких запястьях. К столу подавала, и плотные груди почти обнажались в наклоне.
Нередко с тех пор появлялся Охотник в домишке у моря. Порой помогал Рыбаку управляться с сетями и путался в них неумело. Играл для друзей вечерами на старенькой флейте. Гуляли, смеялись. Втроём… Так было…
Но выпала ночь, колючая, с первым безудержным снегом. И ветер был горек в ту ночь. Рыбак не вернулся, и в доме у моря Охотник пробыл до утра…
Был утренний снег отчаянно бел, когда на взлохмаченном цинке воды качнулась разбитая лодка…
Подальше от моря! Скорее! Нельзя оглянуться!..
С той ночи Охотник уже не ходил на охоту, а чучело белого зайца и утки, невиданной в этих местах, он бросил в огонь…
Теперь деревенские вдовы не знали отказа… А вскоре Охотник и вовсе женился… На самой из них некрасивой, но самой богатой… И будто бы ладно зажили они, да только исчез он однажды, оставив жене полинялую шляпу с пером да старую флейту.
«Чудной», – говорили одни. Другие судачили, будто бы слышали эхо от выстрела где-то… Легко ли не верить?..
Бывало, и эхо соврёт.
День
 Утром во мне поселился старик.
Утром во мне поселился старик.
– Выпьем? – предложил я.
Пил я, уже не помню, который день кряду, и мысли разнообразием не отличались.
– Это можно, – согласился он. – Да не напрягайся ты так. Я ведь не в гости. Теперь насовсем… со всем, так сказать, скарбом.
– Э-э… Не дури, старый. «Насовсем» мне и самому с собой уже в тягость. – Я плеснул ему, не жалея. – Давай-ка вот, «накати» и отчаливай, как говорится. Иди, куда шёл.
– Эх ты, спиртосодержащий! К тебе и шёл. С тех пор, как родился ты, розовенький такой, мамкина плоть.
Выбравшись из моего измученного алкоголем тела, он сел напротив и, выпятив дряблый кадык, бодро глотнул. От взгляда его увлажнившихся глаз меня замутило.
Налил себе. Старик поощряющее подмигнул:
– Ну-ну… Пей – не жалей! У тебя в гараже ящиков десять пойла этого.
– Откуда знаешь?
Я выпил, для удержания «градуса» в глотке плотно сцепив зубы. Десять ящиков – чистая правда. От старой работы. Остатки. Служил я тогда начальником, и взять у директора местного спиртзавода две-три упаковки такой безакцизной дряни было, как в море плюнуть.
Однако загадочность старца настораживала.
– Откуда знаешь? – повторил я вопрос.
Обнажив подгнившие зубы, он улыбнулся:
– Многое знаю. Про тебя так и всё почти. И книжки какие в детстве читал, где честным был, струсил где… про щедрость и жадность твою… про женщин.
– Про женщин? Забавно. Я-то и сам не всех уже помню.
– А всех и не надо. Как там у Башлачёва? «Эти женщины, метры, рубли…»
– Ну, старый, даёшь! – Водка оживила. – И Башлачёва знаешь?!
– Тот ещё «любитель» был!.. Как не знать? Да и ровесник твой.
– Любитель, не любитель! Не тебе судить! – окрепшей рукой я разлил остатки.
Внимательное спокойствие собеседника раздражало.
– Может быть, и не мне. Может… и вообще никому. Старик-то ещё не у каждого…
– Как это? – застыл я с поднятым стаканом.
– Не в каждом старик живёт. Кто молодым уходит, в тех – нет.
– Загадками говоришь. Давай, расшифруй-ка! Судьба вот, к примеру, есть она или нет?
– У кого есть, а кому – так… тропка хоженая.
– Знакомо, – вспомнив о водке, я выпил. – Как же различить их: со стариком кто… кто без?..
– Тут просто. Кто «без» – чумные они. Сегодня им всё подай! А лучше, так прямо сейчас! Тут присмотреться только…
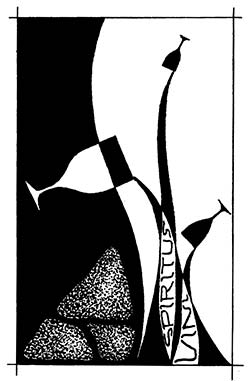 Он мне порядком поднадоел, и захотелось на воздух.
Он мне порядком поднадоел, и захотелось на воздух.
Вышел во двор. Дык, ёлы-палы! Апрель! В цвету всё! За пьянкой этой весна, да и лето следом, порожняком пролетают. Машина времени.
Побелевшая черешня вьюжит пчелиным гулом. Слива и вишня прихорошились у забора. Да ладно! Какие там слива и вишня! – девицы на танцах!.. Закуриваю. Лет двадцать, как бросил. Теперь – полной грудью... Старик! Где он?.. Бросило в дрожь… Был или не был?..
Бесцельно побродив по двору, глажу ткнувшуюся лбом в ноги кошку. Пьянка – это ведь тоже жизнь. И радости в ней, тонкие радости, тоже есть. Вот кошка, любит же она меня за что-то? Или за что-то любят только женщины – за кошелёк, за порцию ласки, за ложь с сиропчиком?.. А кошка? Та – ни за что, так… Серая мурчащая тварь. Интересно, любит ли меня жена? Господи, совсем запутался: жена – это та, от которой ушёл вчера, или та, что полгода назад сказала – мол, алкоголики не её профиль… и плакала так долго, что превратилась в какую-то мокрую птицу? И улетела… а слёзы всё капали… За это и выпить не грех… Прямо из горлышка… закуска не лезет… под валидол… Ху!.. Провалилось. Только бы мама ещё не пришла. «Сынок, что же ты с собой делаешь?» Вот где тоска-то! Старика увидит ещё… Как объяснить?.. Единственной ей – никак…
Пить, снова пить. Так проще! Машина времени.
Что же теперь? Позвонить кому?.. Как выпьешь, звонить – это первое дело. Ивану Михайловичу? Нет. Скажет опять: водку свою бросай и стихи пиши. Мол, строки твои лучшие ещё впереди. Как убедить его, что Гамлета своего я уже сыграл? Только не понял никто. Даже он – мастер… Тогда Ковалёву? Архитектору-гитаристу. Тот, если я пью дня три, и сам не прочь рюмку-другую «хлопнуть» со мной. А если, скажем, дней двадцать?.. Так-х… тут он уже «и не друг, и не враг, а так…» Порицает. Стоп-кран! Сам, верно, потому как за штурвалом «мессера» этого – алкоголя – не раз пикировал, не зная, приземлиться или приводниться придётся. Теперь осторожен. Вот и выходит, в начальной стадии штопора звонить ему – только и смысл. А Мельничков? Тот честно, тот до конца – стакан пока мог держать. Только взял да и умер однажды. Такие дела. Значит – Германия. Эстерле. Немец с русской душой. «Намахнув» для поддержки тонуса, выкручиваю длиннющий номер.
– Да. Я слушаю, – неизменный со студенческих лет баритон.
– Это Швабия?
– Ха, старина! Это не только Швабия. Это штаб-квартира «одиноких сердец сержанта Пеппера». Что новенького?
– Новое только то, что весна. Что жёны ушли от меня… а может быть… я от них… Не разобрался пока.
– Сочувствовать или радоваться? Что выбираешь?
– Что выбираю? Пару минут разговора со Швабией.
– Ты снова «под газом», дружище! Не значит ли это, что факельное шествие жителям Новопавловска обеспечено?!
– Ха!.. Угадал. Факелы ждут!.. Счастья и смерти. Их поровну.
– Уверен, ты выберешь то, что надо!..
Со связью или во мне что-то так. К весёлому голосу друга примешивается вязкое – из глубины: «Выпить! Тебе давно пора выпить!» Бросаю трубку.
Спустившись в гараж и нащупав в дежурном ящике пару «флаконов», шагаю во двор. Темнеет, и сад… праздничный сад… Что это с ним?.. Деревья – бесформенные монстры – горбятся и толкают меня. Бережно прижав к груди алкоголь, до крови царапая щёку о стенку дома, с трудом пробираюсь к крыльцу. Наткнувшись на стол, в тот же стакан – до краёв! Кто-то, неведомый мне, да что там неведомый – старый знакомый – клещами сжимает горло. Знаю – скоро наступит «завтра»… И лучше бы этого «завтра» не наступило.
Водка вползает в меня, будто вода в пересохшую, разбитую паутинами трещин землю. Всё! Несколько часов – тайм-аут. Спать.
В спальне старик на кровати читает газету. Ну и названия у этих газет! Чёртовых местных газет. «Голос…» какой-то…
Сага о литмедалях (больших и малых)
 Захотелось мне малую есенинскую медаль. Прихожу в ЦДЛ и говорю:
Захотелось мне малую есенинскую медаль. Прихожу в ЦДЛ и говорю:
– Заверните мне малую есенинскую.
– За какие заслуги? – спрашивают.
– Так я же стихи пишу, – отвечаю.
И рукопись им на стол – бряк!
– Читайте, – говорю, – как есть, по России плачу!
Хмыкнули они, повертели рукопись.
– Плохо, – говорят, – плачешь. На малую есенинскую навзрыд и с выражением надо.
– Ну, дайте хоть среднюю бунинскую, – говорю. – У вас этих медалей вона скока!
– Не достоин ты, – говорят, – средней бунинской. У нас на среднюю бунинскую свои кандидаты имеются.
– Как это не достоин?! – кричу. – Да у меня штаны уже падают! Да я за среднюю бунинскую кому хочешь глотку перегрызу.
А чтоб они не подумали, что шучу, схватил чью-то рукопись и зубами пополам её – хрясь!
– Да кто вы такой, чтоб рукописи – зубами?! – закричали, забегали. – Да мы вас и знать-то не знаем!
– Это я кто такой? – спрашиваю. – Да мне сам Бродский руку пожал!
Притихли ребята. А я продолжаю:
– Иду я по Невскому. Вдруг, оба-на, Бродский! Я тут же к нему.
– Опять! – говорю. – Умирать? На Васильевский остров? Он молча кивнул и руку до боли мне стиснул.
Смотрю, приуныли. Осталось дожать.
– Меня, – говорю, – и Соснора хвалил. Стихи, говорит, у тебя с завихрениями. А я ему скромно так:
– Что нам, поэтам? Строчим! Завихряем!
Крякнули тут ребята. На весь ЦДЛ крякнули. Решительно так! И стали в затылках чесать. Чешут и чешут. Основательно чешут.
А как перестали чесать, так самый сметливый и говорит мне:
– Медалей Сосноры и Бродского в наличии нет. А всё почему? Да потому, что слёз по России у них раз-два и обчёлся. И оды у них о русских пельменях нет. А у нашего медалиста Моржова-Тюлькина есть. Вы вслушайтесь только! Не ода, а музыка сфер!
Три туши мяса нарублю,
Немного от медвежьей ляжки,
От кабана, что толще Дашки…
И вилки острое движенье
Вонзилось с радостью в пельмень –
Любимец русских деревень…
В мозгах у меня что-то сместилось, и вдруг показалось, что это острое движение вилки пришлось не в пельмень, а в меня. Собравши остатки сил, я прохрипел:
– А Дашка эта, кто она?
Сметливый отбрил меня жёстко:
– Ну, Дашку-то стыдно не знать! Буфетчица наша! Любимица ЦДЛа!
– А можно ещё? – спрашиваю. – Проникнуться, так сказать, нетленными строками.
Сметливый хитро улыбнулся и тут же продолжил (а мне почему-то подумалось – сам он и есть этот Тюлькин-Моржов):
– Ты худая, как ГУЛАГ,
Серый я от пыли.
Отоспимся натощак,
Лишь бы не будили.
Я без женщин спать боюсь.
Водка, сигарета.
За окном морозит Русь
Что-то у поэта…
Тут главный у них прослезился, достал из кармана серебряную рубцовскую и этому сметливому с размаху на лацкан – шлёп её!
Стушевался я окончательно:
– А золотую кому?
– А я-то на что? – приосанился главный. – А ты, завихряльщик, давай-ка на выход. У нас тут своих завихряльщиков вона – президиум целый!
Вздохнул я и двинул на выход. И горько так, горько заплакал. По ком? Да по матушке нашей, России. А с ней заодно и по русской поэзии нашей.
Иллюстрации:
Андрей Тозик (Калилинград);
фотография скульптуры Огюста Родена
дополнительных пояснений не требует
© Олег Воропаев, 2016.
© 45-я параллель, 2016.
