Муза средь стольких невзгод – о чужестранка моя!
из «Скорбных Элегий» Овидия
 При нынешней скорости и оборотистости электронных коммуникаций нам уже не понять оторванности и одиночества человека, который был выслан из Рима в далёкое захолустье, фракийский город Томы (нынешняя Румыния), тогда заселённый греками, две тысячи лет назад, в 8-м году Anno Domini – лично императором Августом.
При нынешней скорости и оборотистости электронных коммуникаций нам уже не понять оторванности и одиночества человека, который был выслан из Рима в далёкое захолустье, фракийский город Томы (нынешняя Румыния), тогда заселённый греками, две тысячи лет назад, в 8-м году Anno Domini – лично императором Августом.
Две тысячи лет назад!
Обстоятельства высылки успешного, признанного и обласканного жизнью пятидесятилетнего к тому времени Овидия неясны до сих пор. Часть исследователей и уклончивые упоминания самого Овидия говорят о том, что он совершил некий проступок.
Причины для вообще ссылки могут быть разными, как вот, например, у Стругацких: «Тихон был славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то провинность: с кем-то он там не так поздоровался или отказался есть гадюку варёную...»
И директор НИИ, и кандидат наук тоже могли в 20-м веке оказаться чертёжниками в какой-нибудь захолустной шарашке, и ещё хорошо, если так. Словом, ссылка как наказание, то есть физическое перемещение неугодного лица за нефизический ущерб власти – в отдаление, чтобы хуже было слышно, приём не новый.
Другими уточняется, что проступок состоял в том, что он оказался невольным очевидцем чего-то, чего не должен был знать, и его удалили как ненужного свидетеля.
Ещё часть литературоведов утверждает, что его выслали за фривольную книгу «Наука любви», которая, по мнению Августа, способствовала падению нравов. Но эта книга была написана и всеми признана за восемь лет до высылки и никак не могла быть свежей причиной такого беспримерного наказания.
Последние, и я, признаюсь, стою на их стороне, склоняются к тому, что ссылка Овидия была только приёмом, которым до сих пор успешно пользуются политики. Чтобы отвлечь внимание общественности от чего-то другого, в том числе и от своих собственных неблаговидных поступков, надо только выбрать кого-то приметного и сделать с ним нечто очень суровое и малообъяснимое. (Аналогии и примеры? – сколько угодно!)
В случае с Овидием цель была достигнута абсолютно: он прожил в ссылке ещё десять лет, пока не умер там же, и все эти годы он не уставал молить кесаря о разрешении вернуться и о прощении вины, которую он сам отчётливо никогда не называл. И все эти десять лет общественность Рима не переставала пережёвывать слухи и догадки о причине его опалы. Как видите, загадок хватило на две тысячи лет.
Что начинает делать любой человек, высланный властями за пределы своей страны, или оказавшийся в чужом месте силой обстоятельств, или просто надолго, а то и навсегда уехавший? – Он пишет письма оставшимся.
Раньше расстояние и время вообще имели другой смысл.
Человек десять дней ехал из Петербурга в Москву и писал об этом целую книгу, за что ему приходилось потом отправляться по ещё более далёкому маршруту.
Другой, ещё раньше, совершал «Хождение за три моря», и тоже оставлял об этом толстый том.
Даже вымышленный (вымышленный ли? «из Марциала») лирический герой Бродского слал «Письма римскому другу».
 А «Записки из Мёртвого дома», «De Profundis» – примеров множество. Ни один отринутый обществом, ни один уехавший не хочет исчезать из сердец и памяти тех, кто остался, и делится с ними всеми подробностями тяжкого пути и нюансами своих переживаний. А уж поэтам делать это сам Бог велел.
А «Записки из Мёртвого дома», «De Profundis» – примеров множество. Ни один отринутый обществом, ни один уехавший не хочет исчезать из сердец и памяти тех, кто остался, и делится с ними всеми подробностями тяжкого пути и нюансами своих переживаний. А уж поэтам делать это сам Бог велел.
Всё наследство эмигрантских творений Овидия суть письма. Свои главные книги он создал в первые пять лет ссылки. Это объёмные «Скорбные Элегии» и «Письма с Понта». Также он написал небольшую поэму «Ибис» – это книга, полная таинственных проклятий кому-то неназываемому, кто, возможно, и виноват в его ссылке, и хотел поживиться его имуществом. Кроме того, стилистически она написана, как пародийное отражение собственных приёмов, как актёрский монолог, и противопоставляется всему остальному творчеству Овидия. Призывы к милосердию «Элегий» здесь сменяются нападками и злобой, благословения – проклятиями, да и сам адресат (раньше: друзья, родные, жена) – это теперь образ врага.
Через пять лет изгнания вдохновение заметно иссякает, и меняется предмет поэзии. От позднейшего периода остаются неоконченная поэма «Фасты», а также «Орешник», «Наука рыболовства» и «Притиранья для лица». Содержание двух последних ясно из названий, да и сами стихи являются просто виртуозными упражнениями профессионала на избранную тему.
Главные же поэмы Овидия заслуживают пристального внимания.
 Овидий начал писать свои ламентации, едва ступив на борт корабля. Уже к прибытию в место ссылки у него была готова первая книга «Скорбных элегий», которую он немедленно отправил назад в Рим с тем же кораблём. Название книги по латыни – «Tristia», и тут невозможно удержаться от ассоциации. Стихи Мандельштама периода 1916-20 гг. составили книгу, озаглавленную им «Tristia», разумеется, восходя названием к Овидию. Параллели мрачны, но неизбежны: биография Мандельштама в дальнейшем включает в себя и ссылку, подобно античному автору, и безвременную страшную смерть.
Овидий начал писать свои ламентации, едва ступив на борт корабля. Уже к прибытию в место ссылки у него была готова первая книга «Скорбных элегий», которую он немедленно отправил назад в Рим с тем же кораблём. Название книги по латыни – «Tristia», и тут невозможно удержаться от ассоциации. Стихи Мандельштама периода 1916-20 гг. составили книгу, озаглавленную им «Tristia», разумеется, восходя названием к Овидию. Параллели мрачны, но неизбежны: биография Мандельштама в дальнейшем включает в себя и ссылку, подобно античному автору, и безвременную страшную смерть.
Пять книг «Скорбных Элегий» содержат в себе всё, что могут содержать письма изгнанника или эмигранта. Он неустанно описывает свои невзгоды, когда вокруг плохо всё: погода, климат, растения, язык местных жителей – непременно варваров, их одежды, манеры, ритуалы, их праздники, их дети, их еда и род занятий. (Как это знакомо, правда?)
Как посмотрю я вокруг – унылая местность, навряд ли
В мире найдётся ещё столь же безрадостный край.
А на людей погляжу – людьми назовёшь их едва ли.
Злобны все как один, зверствуют хуже волков...
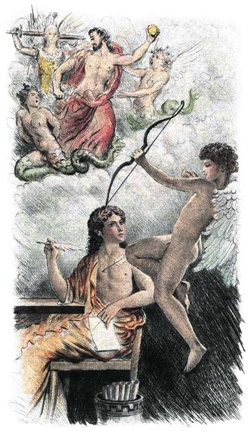 Все десять оставшихся ему лет он упоённо разделяет социум, существующий вокруг него, на «я» и «они». При этом оставленный возлюбленный город, то есть Рим, – это «там, у нас», и он даже пишет его только с большой буквы: Град. Потому что вне Рима, неустанно им воспеваемого, для поэта жизни нет. (Короче говоря: «В Москву! В Москву! В Москву!»)
Все десять оставшихся ему лет он упоённо разделяет социум, существующий вокруг него, на «я» и «они». При этом оставленный возлюбленный город, то есть Рим, – это «там, у нас», и он даже пишет его только с большой буквы: Град. Потому что вне Рима, неустанно им воспеваемого, для поэта жизни нет. (Короче говоря: «В Москву! В Москву! В Москву!»)
Он настаивает на том, что, сколько бы ни прошло времени, он не привыкнет никогда и ни за что.
Думал я: длительный срок затянуться поможет рубцами
Ранам – а раны болят, будто я ранен вчера.
Он принципиально не учит местный язык: а зачем? ведь это место никогда не станет его домом! – и поэтому честно повторяет: меня никто не понимает. Так он сладостнее чувствует своё одиночество.
Пусть в них опасности нет, но они отвратительны с виду...
Между собою они говорят на местном наречье,
Я же движеньями рук мысль выражаю для них.
Сам я за варвара здесь: понять меня люди не могут,
Речи латинской слова глупого гета смешат.
Прочие темы для жалоб – это одиночество, отсутствие друзей, родных, немилость судьбы и незаслуженность страданий. И небу, и земле рассылаются упрёки: как они там могут быть счастливыми, когда он так несчастен? и... неужели забыли его? Вот какой красноречивый намёк содержится в начале одной из элегий:
Всё ли ещё, когда с Понта письмо принесут, ты бледнеешь?
«Письма с Понта», которые включают в себя четыре книги, это письма к практически определённым адресатам. Благодаря этому мы знаем имена тех, кого Овидий считал своими друзьями. Понтийские письма продолжают избранную тему «Элегий» примерно в том же ключе.
Я не смыкаю глаз – и печаль моя глаз не смыкает...
Рана моя такова, что ежели нет ей целенья,
То безопасней всего вовсе не трогать её...
Звёзды иные у нас, небеса не такие, как в Риме...
Помимо жалоб письма включают в себя руководства к действию: Овидий точно указывает, когда, кому и как просить за него у императора («Женè», «Сексту Помпею» и др.): когда уместно всплакнуть и разжалобить Августа, когда лучше скромно промолчать. Он вообще выстраивает целый сценарий и в любом случае и при любой теме в своих посланиях заботится о том, чтобы убедить оставшихся посвятить всю свою жизнь ему, Овидию, и его возвращению на родину. А если не возвращению, то хотя бы смягчению ссылки и разрешению жить поближе к единственному Граду. Также обращает на себя внимание трогательная иерархия, указанная в стихах Овидия, определённые правила субординации: сначала просить надо Августа, а уж затем обращаться к богам. Потом он и вовсе называет Августа богом, чем сокращает алгоритм хлопот на один шаг.
 Надо сказать, что объединяющими темами «Скорбных элегий» и «Понтийских писем» являются воспевание самой поэзии и непрестанные восхваления императору.
Надо сказать, что объединяющими темами «Скорбных элегий» и «Понтийских писем» являются воспевание самой поэзии и непрестанные восхваления императору.
Дар Овидия, отчасти, вероятно, послуживший причиной ссылки (книга «Наука любви») – его же величайшее благо, именно благодаря своему поэтическому таланту он обращает, подобно Мидасу, любой камень действительности в золото строк.
Ты советуешь мне развеять печаль стихотворством...
Или:
Больше стихов не хочу, но пишу против собственной воли...
И даже временная немота от угнетённости духа превращается в повод для нового послания:
Больше нет слов у меня просить всё о том и о том же,
Стыдно пустые мольбы мне повторять без конца.
Такое начало письма «Друзьям» включает в себя сорок (!) строк, развивающих столь банальный зачин об отсутствии вдохновения.
Императору же достаётся следующее – в различных вариантах и неоднократно:
Ты, что зовёшься отцом и правителем нашей отчизны,
С богом поступками будь, так же как именем, схож.
Ты ведь и делаешь так, и нет никого, кто умеет
Власти поводья держать так же свободно, как ты.
Вот так прямо и простодушно. О, как знакомо...
Через пять лет ссылки печаль стала понемногу стихать. В Риме в 14-м году умер Август, так и не вняв воплям опального поэта. Императором стал Тиберий, а на него у Овидия не было никаких надежд. Ему пришлось учиться смиряться с мыслью, что жизнь его закончится в изгнании. Он по-прежнему продолжал писать «Письма с Понта», но перестал собирать их в новый сборник. Он заметил и сам, что остыл, стал меньше писать к друзьям и надеяться на действенную помощь. Начал поэму «Фасты» – стихотворные вариации на тему религиозных дат римского календаря, но закончить её не смог.
Понемногу он освоился с гетским языком и даже составил несколько стихов – восхвалений Августа – на местном наречии. И аборигены оказались не такими уж бездушными дикарями: они отлично сознавали, кто достался им в невольное соседство, и власти города в знак почёта освободили Овидия от налогов и увенчали его венком. Словом, Овидий почувствовал, что «можно быть римлянином и вне Рима и поэтом без читателей и слушателей», по блистательному выражению М. Л. Гаспарова.
В заключение надо сказать, что кажущиеся далёкость тем и манера стихосложения античного поэта – совершенно условны. Наоборот, его стихи отличает большая естественность, и его поэзия может быть близка любому читающему, ссыльному или нет.
Всё, что людям дано, на тонкой подвешено нити...
Это сказано Овидием, хотя получило большую известность в пересказе другого автора, – «не так ли, игемон?..»
И разве что-то изменилось за две тысячи лет?
© Майя Шварцман, 2014.
© 45-я параллель, 2014.
(Цитаты из Овидия приведены в переводах Н. Вольпин, М. Гаспарова, С. Ашерова и С. Шервинского).
