Князь Иван Никитич Одоевский проснулся среди ночи. Хрипел как удавленник, хватая пересохшими губами прохладный воздух горницы. И никак не мог надышаться. В едва брезжащие оконца била ноябрьская вьюга. Сиплый ветер выл, словно по покойнику. Было зябко вставать из-под угретого за ночь покрывала. Князь сделал усилие и поднялся. Грузно шагая, подошёл к образам и привычно перекрестился.
Потом жадно пил стылую от оконного сквозняка воду. Прислушался. Всё было тихо на Сретенке в ненастный час. Сторожа у рогаток попрятались по избам, словно зная, что и вору такая непогода не по нутру. Изредка побрёхивали собаки, подвывая ветру.
Иван Никитич оглянулся на постель, белевшую как саван, и поймал долгий взгляд супруги. Не увидел, нет, скорее угадал его в полутьме горницы. Знал, что княгиня проснулась от его хрипа. Вернулся на полати и сел у неё в ногах. Трогал тёплые ступни жены озябшими от медной братины руками, как бы отогреваясь её женским естеством. Оба молчали, но думали об одном и том же. Так и сидели впотьмах: он тяжело дышал, размышляя, она боялась шевельнуться, точно малейшим движение своим могла прервать мужнины думы.
– Как рассветёт, к Владыке поеду, не могу больше. Давит, давит сердце. В ближней думе бояре вчера малого Ивана на смерть приговорили. Не знает Владыка ещё, не допустил бы.
– Езжай, батюшка. Ради ребёночка в моём чреве поезжай. Детки-то, они безвинны. Как же руку-то на них поднять?
 Он почувствовал, как её тело вздрагивает, знал, что плачет. Уже неделю плакала, с тех пор, как привёз тех в Москву. Сам ведь рассказал жене про астраханские свои мытарства, про пленение Государыни. Как вёз с конвойными стрельцами её и сына в Казань, а потом и на Москву. Как въезжали в Земляной город через Серпуховские ворота, и возок встал в заторе. Набежали бабы, глазели и шептались: «Еретичку с выблядком поймали», – но близко подойти боялись. Сидела она, статно выпрямившись, маленькая и чернявая, руками, словно птица крыльями, сына прикрывала от злых глаз. А юродивый Саввка дёрнул князя за сапог в татарском стремени и спросил: «Зачем привёз её? Будет теперь летать по Москве, огонь зажигать!»
Он почувствовал, как её тело вздрагивает, знал, что плачет. Уже неделю плакала, с тех пор, как привёз тех в Москву. Сам ведь рассказал жене про астраханские свои мытарства, про пленение Государыни. Как вёз с конвойными стрельцами её и сына в Казань, а потом и на Москву. Как въезжали в Земляной город через Серпуховские ворота, и возок встал в заторе. Набежали бабы, глазели и шептались: «Еретичку с выблядком поймали», – но близко подойти боялись. Сидела она, статно выпрямившись, маленькая и чернявая, руками, словно птица крыльями, сына прикрывала от злых глаз. А юродивый Саввка дёрнул князя за сапог в татарском стремени и спросил: «Зачем привёз её? Будет теперь летать по Москве, огонь зажигать!»
Ночь казалась бесконечной. Снег густой, совсем уже зимний, бил в окна, будто кто мелкие камешки горстями кидал. Морозы в эту осень ранние ударили, и князь наказывал истопнику до утра следить за печью. Да тот видать забыл вьюшку задвинуть и уснул посреди ночи. Иван Никитич щадил чужой сон, потворствуя своей дворне. Был он строг на государевой службе, дома же незлобив и мягок. Жену свою любил, а как понесла она, стал с ней особенно ласков. По дороге в Москву, куда сопровождал он опальную царицу Марину Юрьевну, частенько глядел Иван Никитич на малолетнего царевича и думал, что будь на то Божья воля, служил бы он сейчас этому черноглазому мальчонке. Ведь целовали ему крест на Москве и в Калуге большие и малые посадские люди, и князья, и казаки. То же было потом в Воронеже, в Астрахани и по везде Волге.
Утихла вьюга, жена уснула наконец, а князю всё неможилось. Вспоминал, как долго ехали с Царицей из городка в городок, и на ночь для неё выискивали лучший двор в посаде. Князь сам с вечера расставлял стрельцов в караулы, а после проверял, не спят ли, не опоили их. Всё чудилось ему, что воровские казаки по пятам идут. Царица всегда просила отвести её к вечерне, и он исполнял с охотой. Исподволь смотрел, как истово она крестится, и думал: еретичка, а богобоязненная. А на Москве, говорят, лики святые в уста целовала, да когда это было-то! Казалось, и в упадке своём сохраняла Марина безмерную гордыню, и когда в коломенском соборе не пустили её на царское место, ожгла она его чёрными углями глазищ и молвила: «Не забывай князь, я на царство в Успенском венчана!» И он уступил…
Князь лёг и глядел, как лампада в углу горела дрожащей от сквозняка точкой, освещая лик Спасителя да разбегающиеся паутиной трещины на серых брёвнах. Тяжёлое ноябрьское утро никак не занималось, словно дитя, не могущее народиться. Князь повернулся к жене и прислушался. Дышала она тихо, еле-еле, словно боясь себя разбудить. На сносях, уже девятый месяц. К Рождеству, видать по всему, разрешится от бремени. Сыном ли? О нём мечтал князь, о нём Бога молил. Может поэтому, жалея маленького Ивана Дмитриевича, не позволял он своим людям называть его Ворёнком.
А что царевич? Мал он ещё, податлив, несвоеволен. Привычен к всполохам пожаров, бряцанию оружия да внезапным ночным переездам, когда татарин служилый или казак сажал его сонного на коня, и уходили они с матерью от погони. Так было и в Калуге, и в Рязани, и много где потом. Князь вспоминал, как входил иной раз в горницу царицы ночью, проведать, и видел его спящего с размётанными на подушке волосами. И царица уже не гневалась, как поначалу, а лишь знак делала: не шуми, князь, государь почивает! Понимал, что истерзанной душой ищет она в нём единственную теперь защиту для себя и для сына. И он теплел к ним. Теперь же понял, для какого дела его судьба готовила.
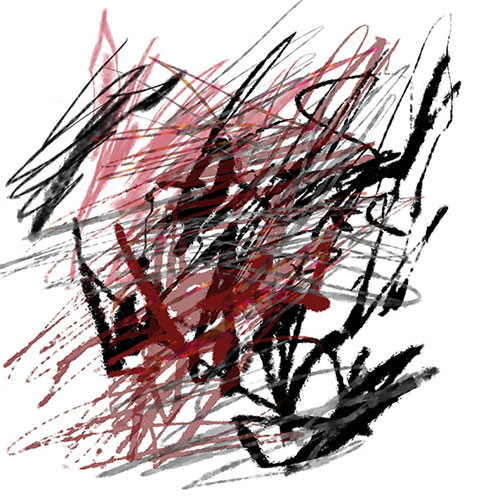 Мыслил ли он, служилый князь, привыкший к сече и к делу государеву, чем обернётся его исправная служба? В юности состоял он рындой при блаженном царе Фёдоре Иваныче, крымцев отражал при государе Борисе Фёдоровиче. При дворе вскормленный, Иван Никитич грамоте поздно сподобился, но книжную мудрость любил и людей грамотных уважал. На стоянках поглядывал он исподволь, как открывала царица книгу-псалтырь да учила сына слова слагать. Мальчик послушно повторял: «добро», «глагол» и водил пальчиком по строкам. Потом сам брал тяжёлую книгу в руки и листал её, выбирая картинки. Говорил он по-русски чисто, не так, как мать. Та пришепётывала иногда, смущаясь, даже сердясь на кого-то неведомого. И тогда чувствовалась в ней чужеземка. Щёки Марины рдели, когда видела она лихую рейтарскую выправку княжьих людей, как гарцевали под всадниками холёные кони. И тут она показывала Ване рукой повелительно: смотри, мол, вот она – сила! И мальчик вставал, подбоченясь, будто не в полон его везут, будто на царство приглашают.
Мыслил ли он, служилый князь, привыкший к сече и к делу государеву, чем обернётся его исправная служба? В юности состоял он рындой при блаженном царе Фёдоре Иваныче, крымцев отражал при государе Борисе Фёдоровиче. При дворе вскормленный, Иван Никитич грамоте поздно сподобился, но книжную мудрость любил и людей грамотных уважал. На стоянках поглядывал он исподволь, как открывала царица книгу-псалтырь да учила сына слова слагать. Мальчик послушно повторял: «добро», «глагол» и водил пальчиком по строкам. Потом сам брал тяжёлую книгу в руки и листал её, выбирая картинки. Говорил он по-русски чисто, не так, как мать. Та пришепётывала иногда, смущаясь, даже сердясь на кого-то неведомого. И тогда чувствовалась в ней чужеземка. Щёки Марины рдели, когда видела она лихую рейтарскую выправку княжьих людей, как гарцевали под всадниками холёные кони. И тут она показывала Ване рукой повелительно: смотри, мол, вот она – сила! И мальчик вставал, подбоченясь, будто не в полон его везут, будто на царство приглашают.
Только как разглядеть в нём царя? Да и кто теперь после Собора усомнится в праве нового государя, Михаила Фёдоровича, всей землёй русской избранного! Иван Никитич всегда стоял за царя законного, стоял крепко, без шаткости, и за то всегда в чести боярской был… Последние недели пути конвойные выбивались из сил по осенней расхлябанной дороге. Дожди сменились мокрым снегом. Ночам лужи подмерзали, и поутру колёса звучно ломали тонкий лёд и снова вязли в грязи. К концу похода стрельцы засыпали в седле, валясь на шеи коней. Князь разрешал им поочерёдно ложиться в телегу, где среди соломы укрыты были брони да пороховой заряд. Сам спал там изредка по часу, не более…
Теперь сна не было уже много дней, и всё другое на уме, жуткое. Утро сквозь слюду окошек незаметно прокралось в терем, очертив крупные предметы, углы и лавки. Князь тихо встал, нащупал у постели саблю (сказалась воинская выучка) и шагнул в сени. Сам растолкал двух своих холопов, что были с ним в Астрахани, и приказал седлать лошадей. Метель давно стихла, и чувствовалось, что к полудню распогодится. Но выстраданное утро не отогнало тяжёлых ночных дум. Решившись, наконец, Иван Никитич поспешил к Владыке. Копыта его каурой кобылы гулко били в подмёрзшую землю. Позёмка летела вслед всадникам, разнося по обочинам жидкий ещё ноябрьский снег. За частоколами усадебных садов застыли на лёгком морозце изломы яблоневых веток. Откуда-то сладко пахнуло дымком. Не доезжая Сретенского монастыря, возле церкви Успения, князь спешился и бросил поводья одному из провожатых. Те стали рядом верхом, не зная намерений хозяина. Привычные ко всему, они только ёжились от утреннего холода. Иван Никитич обнажил голову и вошёл в храм. Уже отзвучала молитва Первого часа. Теперь пономарь зачитывал из Иоанна про суд Каифы. Князь слышал, как распевно летел под свод высокий голос читающего: «…что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб?..» Как будто новыми очами смотрел он перед собой и видел сильного, плечистого мужика, кузнеца или пушкаря, видел бабу с ребёнком, старика звонаря, и понимал, что народ не погиб, вот они – люди, за которых умер когда-то Христос. И сейчас кто-то новый должен за них умереть…
В ограде владычьих палат на Рождественке было шумно и суетно, как в приказе. Деловито сновали посыльные дьяки, благочинные иереи непрестанно входили и выходили, шурша рясами. Согбенный служка-монах, увидев князя в дверях, тронул его за ножны тонкой татарской сабли, поклонился и пробормотал: «Доставил-таки Маринку. Благодарствуем…» Тот отшатнулся в темноту сеней. Ивану Никитичу казалось, что монахи оборачиваются и втайне крестятся, будто все уже знают, что это он поймал опальную царицу, что он в ответе за всё дальнейшее. Не Государь, не бояре, не Владыка, а он один.
Владыка встретил его сердечно, и в тёплой руке, протянутой для поцелуя, почудилась князю надежда. Митрополит был в домашней простой рясе и мягких сапожках. Доброе лицо его, обрамлённое белоснежной бородой, мягко очерчивалось нежданными солнечными лучами, и свет внешний соединялся со свечением, струящимся как будто изнутри, где под пергаментной кожей лица жила и пульсировала каждая жилка, каждый сосуд. Усталые старческие руки святителя с чёткими бороздками морщинок покоились на столе. Среди свитков монастырских отписок лежало раскрытое на Екклезиасте Писание. Спросив святителя о здоровье и получив благословление, Иван Никитич хотел уже сказать о наболевшем, но митрополит опередил его:
– За сделанное честь тебе и почёт. Об ином же не думай…
– Страшно, Отче! Ведь дитя он неразумное. Меньше Димитрия, в Угличе убиенного. На всех нас грех будет.
Владыка вдруг встрепенулся и встал. Лицо его сделалось строго:
– Грех, княже, он у каждого свой. Всяк сам перед Всевышним ответит. Каждого особо судить будут, а не всех скопом. Ты пройдись Варваркой, на торжище потолкайся. Посад, вишь, как отстроили! На баб посмотри, на детишек. Люди только зажили. Ты им надежду подарил.
– А он как же?
– Безгрешны детки убиенные. В раю будут. Твой грех отпускаю. Ступай с миром. А мне на Собор пора.
Князь поклонился и вышел. На дворе было привольно. Ветер разогнал последние облака, которые истаяли, будто дымок затухающего костра, и синь куполов Рождества Богородицы слилась с небесной голубизной. «Ишь, как растеплилось», – подумал князь, жмурясь. Митрополичьи слуги суетились, толкая и подначивая друг друга, проверяли упряжь возка и сбруи своих коней. Вышел Владыка, теперь уже властный и сановитый. Золотой архиерейский крест на его груди горел в полуденных лучах ярко, ослепляя. Тронулись первые верховые, затем митрополичий возок, за которым шумной толпой потянулись конные дворяне. Последние всадники покидали двор, и вместе с ними, казалось князю, уезжал и его грех. Подтаявший снег разбряк на деревянной мостовой двора, густо пахло лошадиным навозом.
Иван Никитич отпустил домой своих холопов и поехал один к Лубянке. Москва и правда вновь поднялась, захорошела. Деревянные дома посадских людей отстроились и обросли частоколами. Попадались и каменные боярские да купеческие палаты. Шумно и дымно жил многолюдный город, в его тёплом дыхании отступала слабая, нетвёрдая ещё духом зима. Лёд весь растаял, разбитый копытами коней и бесчисленных множеством людских ног, но, коварный, закрадывался талою водою в лапти и сапоги, заставляя москвичей прибавить шаг. Князь расстегнул ворот охабня и ехал по Никольской мимо первой Печатни. Он глядел в прозрачное, без единого облачка, небо, в котором чернильными буквицами возникали тут и там птицы и словно тонули в этом небесном омуте. Вдруг стайка мальчишек пролетела от церкви Богоявления и увязалась за ним, крича: «Князь Одоевский поймал еретичку». Ивану Никитичу сразу сделалось неуютно на улице, будто кто-то водой его окатил прилюдно, и он свернул в самую середину иконных рядов. Протолкнувшись на коне сквозь многолюдные толпы москвичей, он въехал на двор Никольского греческого монастыря. Здесь было много тише и покойнее. Привязав коня, он заглянул в монастырский собор, где костромские богомазы расписывали стены по сырой ещё штукатурке. По левой стене готово уже было Благовещенье, где коленопреклонённый Архангел Гавриил в серой гимантии протягивал Деве Марии лилию. Далее открывалось тёплое, пахнущее хлевом Рождество с волами и пастухами. На правой стене подле окна солдаты Ирода в сверкающих латах огромными мечами рассекали на части младенцев в Вифлееме. Один из воинов обернулся, и лицо его показалось князю знакомым. Ему вдруг стало тоскливо…
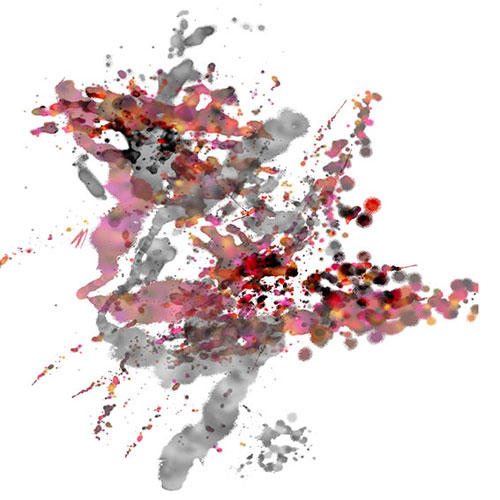 В чаду кабака на Ильинке, в пьяном шуме и гаме подсел князь за почерневший, изрезанный ножами, облитый жиром стол, за которым гуляли приказные. Он пил с ними вино, потом крепкую жгучую водку. Те поднимали чарки за Государя, спорили и кричали, обсуждая какую-то грядущую казнь. Бранились и хватали друг друга за руки, потом мирились и снова пили. Звали князя с собой к Серпуховским воротам. А он, вдруг словно отрезвевший, отнекивался и смотрел на пыль, что кружились в луче, падавшем из высокого подвального оконца. Он думал, что вот пылинка так мала и жалка, а всё же счастлива и видима в луче, и сама, быть может, видит этот свет. И ей того и достаточно, чтобы просто быть. И он готов был стать пылинкой, и чтобы Ваня стал ей, и пускай они просто будут. И будет свет, который никогда не кончится. И больше ничего не надо.
В чаду кабака на Ильинке, в пьяном шуме и гаме подсел князь за почерневший, изрезанный ножами, облитый жиром стол, за которым гуляли приказные. Он пил с ними вино, потом крепкую жгучую водку. Те поднимали чарки за Государя, спорили и кричали, обсуждая какую-то грядущую казнь. Бранились и хватали друг друга за руки, потом мирились и снова пили. Звали князя с собой к Серпуховским воротам. А он, вдруг словно отрезвевший, отнекивался и смотрел на пыль, что кружились в луче, падавшем из высокого подвального оконца. Он думал, что вот пылинка так мала и жалка, а всё же счастлива и видима в луче, и сама, быть может, видит этот свет. И ей того и достаточно, чтобы просто быть. И он готов был стать пылинкой, и чтобы Ваня стал ей, и пускай они просто будут. И будет свет, который никогда не кончится. И больше ничего не надо.
Среди пьяного угара возникло вдруг измождённое, пропитое лицо какого-то бродячего монаха, который спорил с князем о чём-то долго, и Иван Никитич понимал, что спорят они о важном, и ярился, но только не мог понять, о чём спор.
В забытьи князь ехал, не разбирая дороги. Начался крутой Васильевский спуск. Он поднял голову и увидел купола Иерусалима*. Народ толпой валил к реке мимо Беклемишевой башни и через мост в Замосквроречье к Серпуховским воротам, туда, где с утра дюжие плотники сколачивали виселицу. Проходящая мимо баба с малой девочкой взяла его лошадь под уздцы и заглянула князю в лицо. «Ведь это ты поймал их?» В её глазах не было ни злобы, ни сострадания, был лишь животный материнский ужас. Чуть не сбив женщину, всадник вздыбил лошадь и поскакал назад от того страшного, что не произошло ещё, но обязательно случится, как случилось много веков назад. В спину ему бил унылый колокольный звон, нагоняя и обгоняя всадника, и не было от него защиты.
Вот, наконец, Сретенка и тихое, выбеленное после московского пожара Успение. Возле своей усадьбы он спешился и вбежал сломя голову в раскрытую настежь дверь, точно зная, что стряслось дома, и почему тихо, по-звериному стонет жена. Зная, что проклят навсегда, и что прав был Владыка, говоря про грех, который ни искупить, ни отмолить уже до конца дней. Снова похолодало, и крупными хлопьями падал снег, ложась на скаты крыши и на затоптанные грязью ступени крыльца. Зима в этот год обещала быть суровой.
___
* Иерусалимом называли Покровский собор, позже прозванный в народе храмом Василия Блаженного.
© Илья Валеев, 2019.
© 45-я параллель, 2019.
