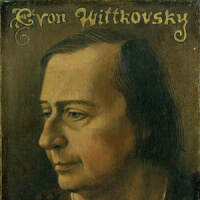Все стихи Евгения Витковского
* * *
А я ведь не знаю, какое сегодня число,
Куда меня ветром времён и за что занесло.
А я ведь не знаю, кто бог на сегодня, кто чёрт –
Желания нет забираться в подобный кроссворд.
Мне только всего-то узнать бы, что цел кошелёк,
Что в чьём-то окне помаленьку горит фитилёк.
Что люди опять помаленьку твердят о душе,
Хотя в телевизор глядят («Пуркуа ву туше?»*).
А я их люблю с их похабным житьём да бытьём.
В жилетку поплакать им некому в мире моём.
Я – только звено, только спичка на горьком ветру.
Пока не велят – поживу, ничего, не помру.
Пока не зовут – поучу их невемо чему.
Хоть малую искорку брошу в кромешную тьму.
А справа враги, а и слева, и прямо – враги.
Уж, Господи, хочешь не хочешь, а мне помоги!
Легка Твоя ноша, и вечна моя похвала –
Но, Господи, я ведь не знаю ни дня, ни числа!
---
*А. С. Пушкин. Дубровский
* * *
Памяти о. А. М.
Возьми да и нарушь условия игры:
Обиженный простит: так что ж, просить прощенья?
Полкружки теплоты, восьмушка просфоры
И полведра воды – всё таинство крещенья.
Да, лучше б на миру, – но, в общем, наплевать,
Какие там пойдут суды и перетолки,
Не время тосковать, не время торговать,
А время – собирать последние осколки.
Улыбкою ответь на каверзный вопрос,
Скажи, мол, тороплюсь, мол, бьют копытом кони.
Загадок больше нет. Отбит у сфинкса нос.
История мидян ясна, как на ладони.
Она-то позади, да темень впереди,
И ни зарубки нет, ни лодки, ни причала.
Так, не спеша, плетись: куда-нибудь приди,
Где можно кол забить, забывши про мочало.
Не бойся вновь уйти в земной круговорот.
Как сердцу не саднить, коль в нём навеки рана?
Трудись и не ропщи, вот так и жизнь пройдёт:
Привычнее, чем смерть, – но лучше, чем нирвана.
* * *
Вот и подошли мы то ли к перекрёстку, то ли к семафору.
Кто предупредил бы, что ли, остерёг бы, дал бы, что ли, фору?
Кто бы намекнул бы, поделился мыслью, мненьем хоть каким бы?
Со всего, что свято, время беспощадно посдирало нимбы.
Посдирало шкуру, так что вспоминать ли ордена и даты?
Так что нам ли хныкать, так что нам ли вякать – сами виноваты.
Ни тебе закуски, ни тебе обслуги. Прочь, свиные хари!
Нет ни человека здесь, в людской пустыне, здесь, в мирской Сахаре.
Всё, что зеленело, и луга и долы, вытоптали козы.
Ни тебе подхода, ни тебе погоды, ни метампсихозы.
Женщина приходит, женщина уходит – это сколько ж можно?
Сам не молодеешь, оттого, конечно, несколько тревожно.
Заживает рана, да не обольщайся – тонок эпителий.
За чредою пьянок так же неизбежна череда похмелий.
Всюду вой далёкий, всюду крик тягучий – не предсмертный хрип ли?
Укажи, о Боже, как да и во что же мы, выходит, влипли?
Я кидаюсь в полночь, в сырость и в бездарность, пропаду напрасно
В этой тьме поганой, потерявши голос – но крича всечасно:
Этот мир безумный, мир благословенный, грязный и постылый –
Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!
* * *
Здесь, на земле, странной пускай и неживой –
Город стоит, всё-таки твой, всё-таки твой.
Если замрёт – пусть хоть на миг – сердце в груди –
В каменный лес, в каменный лес лучше нейди.
Пусть это бред, пусть это сон, пусть это блажь –
Всё-таки плюнь через плечо, нечисть уважь.
Под мостовой в трубах, в песке стелется гул –
Всё ли с земли ветер ночной нынче слизнул?
Думал, в реке стерлядь живёт либо лещи?
Нет, не уди, нет, не броди, нет, не ищи.
Дом твой давно отдан под склад, пущен на слом –
Малой слезы не пророни здесь о былом.
Если солжёшь малой слезой, стон вознося –
Прахом пойдёт исповедь вся, исповедь вся.
Нет ничего здесь, в глубине каменных чащ.
Только горит мёртвый фонарь – тускл, но слепящ.
Отражены в чёрной воде скованных рек
Улица, ночь, сто фонарей, десять аптек.
Город и гарь, ветер и смрад. Скажешь не ты ль:
Доброй землёй станет в конце мёртвая гниль.
Может, тогда – верить во мгле не устаю –
Бросит Господь семя своё в землю сию.
Иван Старостин. Груманлан. 1826
Снова падера, снова стоят холода.
Побережник приходит на малую воду,
и к последней черте подползают года,
и уже бесполезно пенять на погоду.
Слишком холодно в нынешнем зяблом году,
век тяжёл, как медведь: бесполезно бороться.
И глядят на незримую в небе звезду
голубые глаза старика-новгородца.
Этот западный ветер ему не указ:
воздух всё-таки полон весеннего хмеля
в день последний, который в пятнадцатый раз
наступил, как всегда, в середине апреля.
В ледниках отражается солнечный свет,
прорываясь в короткое здешнее лето,
ничего-то в котором обычно и нет,
кроме чёрного цвета и белого цвета.
За свинцовой водой – ледяная гряда,
а под нею у моря видны сиротливо
земляные бугры да оленьи стада,
да китовые похрусты возле залива.
Ненадолго оденется в зелень земля,
и никто до зимы не помрёт с голодухи,
и, богатый приплод зверобоям суля,
на воде матерой заиграют белухи.
Если ты здесь один – то не важен ущерб,
знай, бери сколько есть на угодьях свободных
лысунов, голованей и кольчатых нерп,
или даже тяжёлых моржей зубоходных.
В этот мир ни одна не доносится весть,
и сюда доноситься ей просто не надо.
Время года отсутствует здесь, ибо есть
только день, только ночь – и пора снегопада.
И молитва Христова всегда коротка,
и в забвение падают речи псалтыри.
Он на крест-голубец подобрал плавника,
и поставил, тому уже года четыре.
У нетающей кромки солёного льда,
он поставил его, уповая на чудо.
Кто единожды выбрал дорогу сюда –
тот уже и не спросит дорогу отсюда.
Он роптать не желает на этот удел,
и приемлет его, как великое благо:
– Величаю Тя, Господи, яко призрел
Ты меня у холодного архипелага.
* * *
…И лист мелькает…
Иван Елагин
Кленовый лист – совсем не флаг Канады,
Но подчиняет мысли, чувства, взгляды,
Но он – часов осенних господин.
Он – цвета крови не вполне арийской,
И русский крест под надписью английской
Быть может, вижу нынче я один.
Как будто не всерьёз, а понарошку
Умелец врезал в мраморную крошку
И восемь цифр, и между ними – нить.
Да, здесь, у древних вод Мононгахилы,
Конечно, будут новые могилы:
Америка умеет хоронить.
Но, красный лист, не прерывай же танца!
Кружи привычный взгляд американца
И прорезями дивными сквози;
Пускай хотя на миг отступит горе,
Как свечка во Владимирском соборе,
То вверх, то вниз, то вверх, то вниз – скользи.
Былое, отворись, отдёрни шторку,
Дай повидать Владимирскую горку,
Харбин, Саратов – всю колоду карт,
Всё – либо цвета крови, либо смоли,
Жизнь рассеклась на две неравных доли:
В июне оборвался месяц март.
А карты – липа, ни одной без крапа,
Без фетра шляпа и пальто без драпа,
А в пригородах бомбы и пальба,
А позже – вовсе жребий неизвестен,
И лишь один великий драп нах вестен:
Глядишь, ещё да вывезет судьба.
… Но я строку печально обрываю,
Я, как овчарка, мчусь вослед трамваю –
Нет, не догнать – и осень на дворе.
Продлись хоть миг, наш век недолговечный,
А дальше – только крест восьмиконечный
И всю судьбу вместившее тире.
Упасть, ползти на ослабевших лапах,
Земли осенней втягивая запах,
Он всё слабее – зимний воздух чист.
Пора покою, и пора порядку.
Лишь кружится, впечатанный в сетчатку,
Кленовый лист, кленовый красный лист.
Михаил Евграфович и Елизавета Аполлоновна.
Петербург. 1877
Компания слегка навеселе.
игрой себя заранее дурманя,
не движется: на ломберном столе
атласные колоды Шарлеманя.
До сдачи шаг, ну так бы и вперёд,
однако зреет яблоко раздора,
и Михаил Евграфович орёт
заранее на бедного партнёра.
Знай губернатор, что сдадут и где,
так пусть партнёр бы и глядел на двери,
пусть даже и ходил бы по нужде –
но стыдно сесть на ловленном мизере.
И жаль ему не двадцати рублёв,
но лишь самой забавы стариковской,
где в мастерах – сенатор Лихачёв
и Алексей Михайлович Унковский.
Никто не стал бы тут играть в кредит,
лишь Михаил Евграфович бедует:
как сядет за игру, так и сидит
хоть до утра – а всё одно продует.
Игра партнёрам – отдых, интервал,
им завтра лезть в присяжничьи вердикты.
А он в обиде: чуть завистовал,
выигрывал уже, а вот подик-ты.
От ярости его – спаси Христос!
Того гляди, припомнит о рапире!
И то уж хорошо, что тут не штос,
да и не винт, великий дар Сибири.
Увы, душа писателя темна.
Просить его утихнуть – нет резона.
Не может с ним управиться жена,
Елизавета, дочерь Аполлона.
Жена всегда – адамово ребро, –
легко ли, кстати. быть женой вулкана? –
пусть перед нею даже не таро,
а тридцать два кровавых пеликана.
Гадание – мучительная страсть
мадам Елизаветы Салтыковой:
но не нужна ей пиковая масть –
влететь боится в интерес пиковый.
В итоге лишь сироп и благодать,
не отследить ни старца, ни блондина,
ни лошадь, ни мундир не увидать,
коль нет в колоде пики ни единой.
Кричит супруг про «семь вторых» в гостях,
у старого цирюльника нафабрясь,
она ж гадает всё на трех мастях,
и занесён над миром чёрный лабрис.
У Сатаны сегодня славный клёв,
и губернатор мчит на берег Леты,
где ждёт его Порфирий Головлёв
и верные червонные валеты.
* * *
Мой друг, не жалуйся, не сетуй,
А присмотрись-ка к жизни этой.
Гляди: в округе
Коллекция зловещих тварей,
Лепидоптерий, бестиарий,
Мир Кали-Юги.
Здесь – что в Багдаде, что в Дамаске –
Уж как-то слишком не до сказки
Разумной, вечной.
Здесь лишь войной полны театры,
Змея – не символ Клеопатры,
А знак аптечный.
Здесь, раздвигая мрак великий,
Сквозят чудовищные лики,
Вся нечисть в сборе.
Сочится серою планета,
Здесь не Россия и не Лета,
Здесь – лепрозорий.
Здесь нет для гордости предмета,
Здесь ни вопроса, ни ответа,
Ни свеч, ни воска.
Одни отчаянье со злобой.
Не пасовать – поди, попробуй,
Раз карта – фоска.
Уж как ты спину ни натрудишь –
Терпи, казак: никем не будешь.
Мест не осталось.
Коль можешь – верой двигай гору,
А ежели судьба не впору –
Что ж, бей на жалость.
А перемирье – вещь благая,
Ушла война – придёт другая.
Мы тленны, бренны.
Бывает в Пасху панихида,
И даже «Красный Щит Давида» –
Предмет военный.
А если мир – подобье Бога?
Не жаль тогда ни слов, ни слога,
Но будем прямы:
Быть может, разница ничтожна,
Но мир, в котором всё возможно, –
Сон Гаутамы.
Что ж, сон как сон – так пусть продлится,
Здесь никакой причины злиться:
Вот, скажем, атом,
А вот другой – они не схожи,
Так нечего пенять на рожи
Российским матом.
Спит мотылёк – чего уж проще?
Он видит сон – китайца в роще,
Будить не смейте
И знайте: право есть у Бога –
Взяв человека, хоть немного
Сыграть на флейте.
Мелодию, что он играет,
Никто из нас не выбирает
Да и не слышит.
Но Божий Дух во сне и в яви,
Где хочет – уж в таком он праве, –
Живёт и дышит.
Москва армянская
Мыслящая саламандра – человек – угадывает погоду
завтрашнего дня, – лишь бы самому определить свою расцветку.
Осип Мандельштам. Путешествие в Армению
Забрали всё, и ничего взамен –
«ушкуйники пограбили армен».
Привычная в любом столетье драма.
Всего-то лет шестьсот тому назад
был опечален новостью посад:
сгорел лабаз армя́нина Аврама.
И, как на это дело ни смотри,
но если бы не Исраэл Ори,
и не его визит к царю Петруше,
не знаю кто вступился бы за вас,
когда константинопольский кавас
намылился ходить по ваши души.
Царь, только что взобравшийся на трон,
имел врагов чуть не с восьми сторон,
от страхоморд осатанел крысиных,
прикинул он, что вовсе не грозит
России армянин-монофизит,
и разрешил селиться на Грузинах.
Царь рассудил, что гадов и крысят
он изведет годов за пятьдесят,
скатает шлык и мать Кузьмы покажет,
и тут не будут лишними друзья,
особенно когда друзья – князья,
а там – как выйдет, и как фишка ляжет.
В итоге фишка все-таки легла:
наладились какие-то дела,
то с пробуксовкой, то с полоборота,
с подачи мудрых дедов и отцов,
и постепенно, и в конце концов,
но где-то как-то получилось что-то.
Совсем не бог тачает сапоги,
но пригодилось «боже помоги»,
кошачья речь, тягучее сопрано,
и остальной рабочий инвентарь,
и к делу приспособил чеботарь
лекала Арташеса и Тиграна.
Пристроился сапожник-чародей
на улицу глядеть и на людей,
не из дворца, скорее из каморы,
зато теперь не будет в барышах
очередной нахальный падишах:
не тянет Тегеран на Мецаморы.
История не кончилась добром.
Про то, как утомителен погром,
рассказывал визирь шестой супруге.
Но будь-ка добр, историк, не бреши,
про нимб души казненного паши:
его душа давно в девятом круге.
За влажный блеск суворовских куртин,
за розовый армянский травертин,
да и за то, что уцелела глыба,
за каждую копейку и дублон,
Олимпиаде, так сказать, поклон,
сокольничьему Трифону спасибо.
Лет девятьсот в пути преодолев,
мчит на багряном фоне белый лев,
бежит с полотен дальше на полотна,
и возит с Арарата виноград
совсем не исторический Баграт,
а тот Баграт, что из Арагацотна.
И все-таки глаза на миг зажмурь –
и вновь увидишь глину и лазурь:
там в холоде кончается нирвана,
там кошенилью темной опоён
тот снег, что видел разве что Вийон,
тот самый трехаршинный снег Севана.
Теплом последним воздух обогрет,
а звонница глядит на минарет,
спокойно и без всякого укора,
и по реке на юг ползут года,
и лучше чужакам не лезть туда,
где мыслящая дремлет мантикора.
Москва ассирийская
Печная сажа, пиво и яйцо.
Печальный взгляд и темное лицо.
Работа, будка. Прочее – детали.
Был гуталин отчаянно духмян.
Чистильщиков считали за армян,
но, в общем-то, по глупости считали.
Печально быть сморчком среди груздей:
халдей виновен в том, что он халдей,
в том, что не турок, скажем для примера.
Османы из избы выносят сор:
айсор виновен в том, что он айсор,
и что похож на древнего шумера.
Хохочет жизнь – укуренный диджей,
и не поймешь, куда еще хужей:
просвета нет ни на каком этапе,
и комом далеко не первый блин,
и даже как готовить гуталин –
не сказано в законах Хаммурапи.
Князья шнурков и стелек короли,
копившие копейки и рубли,
годами пробавляясь всухомятку,
имея в перспективе и в виду
надежду на счастливую звезду
и просто на счастливую палатку.
Кто растворяет сажу на спирту,
а кто в нее вливает кислоту,
еще другой рецепт у англосакса,
бура и воск, шеллак и скипидар,
такой вот самодельный Божий дар
и, как ни назови, все та же вакса.
Старик Абрам, или старик Априм,
которым оный гуталин варим,
не станет лезть в российские проблемы,
однако же ни за какой посул
он не вернулся бы в родной Мосул,
где вырезали всю семью мослемы.
На левом, Ниневийском берегу,
все, что стояло, отдано врагу,
разрушена последняя лачуга,
там, накурившись опия, мослем
расплавил или просто продал шлем
щумерского царя Мескаламдуга.
Для молодежи, может, и смешон
склонившийся над стельками Шимшон,
что трудится и споро и в охотку,
но мальчик и невинен, и патлат,
однако нынче даже царь Тиглат
держался бы за щетку и бархотку.
Уже без ассирийской бороды
берутся эти парни за труды,
родную речь забывшие подростки,
и ни малейшей ясности в делах,
и вымирают будки на углах,
как вымирает лев галапагосский.
Но рано говорить про эпилог,
пускай в Москве все менее сапог,
но люди – те же божии коровки,
и не хотят скитаться по дворам:
наверное, не зря айсорский храм
поставлен на трагической Дубровке.
Сменился мир, и он опять недобр,
качают годы головами кобр,
секунды превращаются в пехоту
и вовсе не желает знать народ –
который там очередной Нимрод
устроил королевскую охоту.
Очередной минует перегон,
в былое отойдет любой Саргон,
любой закон пойдет на самокрутки,
рассказ окончен, занавес упал,
и пьет последний Ашшурбанипал
холодный чай в тени последней будки.
Москва грузинская
Тут народностей сотня, а, может, и две:
иногда будто на смех, порой будто на спор,
и за тысячу лет накопилось в Москве
офигенное множество разных диаспор.
Путь истории был омерзительно прям,
параллель не желала служить вертикали,
и пришлось поселиться грузинским царям
в той стране, где никто не слыхал о хинкали.
То ль на счастье, а то ли, скорей, на беду,
неудобный подарок Москва получила:
водворился царевич в Охотном ряду
но преставился ранее папы Арчила.
Вряд ли надо те годы добром поминать,
но, хлебнувши однажды османского лиха,
преспокойно могла карталинская знать
созерцать, как струится река Кабаниха.
Пусть в столице звучала грузинская речь,
но всерьез утверждал многомудрый Языков:
заграницею может Москва пренебречь
и не надо стране чужеземных языков.
Только этим не надо пугать москаля,
снег хулить прошлогодний и дождик вчерашний,
триста лет благородные башни Кремля
не мешали дивиться на сванские башни.
Ведь Москва постояльцу подставит плечо,
не жалея последних штанов и камзола,
и на праздники станет готовить харчо
и газету читать под названием «Брдзола»
…Над священным Байкалом свистит баргузин,
в вековую тайгу убегают монахи.
На Москве воцарился чудесный грузин,
и заставил Лубянку готовить чанахи.
И пожар бушевал, и ярился потоп,
абсолютный бардак на земле и на небе,
вот и нет оснований для супр и хехроб,
и за ними приходится ехать в Сванеби.
Опустели марани, отставлен стакан,
и кунаки пасут на далеком Кавказе
четырех лебедей, что станцуют канкан,
сообщая стране о чуме и проказе.
Нет дороги в страну золотого руна,
пусть живет, как живет, и гордится удачей,
и не надо роптать, что допита до дна
бесполезная чаша с горчайшею чачей.
Москва цыганская
Колесо говорит, что оно колесо.
Если сломано – брось, потому как не жалко.
По-российски – зачем, по-цыгански – палсо:
на подобный вопрос не ответит гадалка.
И куда они шли, и откуда пришли?
Улетают века, как по ветру полова.
Притащились они из валашской земли
крепостными хористами графа Орлова.
Но едва ль не тоскует душа на цепи,
да и сердце покою нисколько не радо.
Что привычней цыгану: скитаться в степи,
или петь в «Мавритании» и в «Эльдорадо»?
Только, гордость порою в рукав запихав,
ты посмотришь в отчаянье в омут разверстый,
и, с тоскою подумавши «мерав те хав»*,
невзначай для гадже запоешь «шел мэ версты».
…Не страхует Россия от вечных невзгод,
окажись ты хоть знатной, хоть подлой породы.
Наплевать было им на семнадцатый год,
но ничуть не плевать на тридцатые годы.
Тех, которых в Москву притащил Соколов
поприжала держава в правах и привычках:
мужикам разрешили луженье котлов,
запретили гадалкам гадать в электричках.
В Уголке у цыган, не слыхать скрипачей;
порастает былое соленою коркой.
Позабыли о радости черных очей
две Грузинки с Медынкою и Живодеркой.
Если отдано всё, что получишь взамен?
То, что дьяволу отдано, – нужно ли Богу?
И цыганам оставили только «Ромен»,
как евреям – всего лишь одну синагогу.
И кибитка, и сердце сгорели дотла,
две гитары печально подводят итоги,
«Шел мэ версты» допеты, тропа довела
до десятой версты Ярославской дороги.
Плюнь державе в глаза – ей что Божья роса,
улетает она, не следя за орбитой,
и не знает, что табор ушел в небеса.
и не слышно аккорда гитары разбитой.
____________
*хочу есть (цыг)
Москва-Вавилон
Москвабург, Москватаун, Москвабад, Москваштадт,
жестяные поляны, бетонные чащи,
перевалочный пункт человеческих стад,
эдак тысячу лет над болотом торчащий.
Угасающий дух, ослабевшая плоть,
друг на друга вслепую ползущие строчки,
предпоследние таты, последняя водь,
камчадалки, тувинки, нанайки, орочки.
Воздух осени горькой печалью набряк.
темносерое облако смотрится в речку.
Враскорячку стоит в подворотне каряк,
прижимая к стене молодую керечку.
В этих каменных джунглях, в кирпичной тайге,
скороходы безноги, гимнасты горбаты,
бесполезные гривны, таньга и тенге
превращаются в нищие кьяты и баты.
Здесь бобовый король триста лет на бобах,
на трибуне оратор теряет здоровье,
на армянском базаре опять Карабах,
на абхазском базаре опять Приднестровье.
Не понять, что за действо народы творят,
безнадежно зенит и надир перепутав,
сговорившись, эвенк, тофалар и бурят
бьют селькупов, долган, алеутов, якутов.
На молитву становятся перс и таджик,
по проспектам шагают татарские рати
и все чаще звучит то узбекский язык,
то вьетнамский язык, то язык гуджарати.
Растаман распахнул наркоманский карман
то, что есть, то и есть, никакого секрета,
а туркмен деловито готовит саман
для постройки мечети, не то минарета.
От подобной картины взрывается мозг
здесь разлука привычна, а встреча случайна,
и дымит анашою дощатый киоск
где торчит бородища последнего айна.
Мусульманами полон подвал и чердак,
у любого наган, у любого дубина,
и творится намаз, и творится бардак.
Дайте визу в Москву: надоела чужбина.
* * *
Над всей Испанией ночь и туман.
Вконец одурел европейский шалман:
Дорогой читатель, поверить изволь,
Что в России живёт испанский король –
Плачет, тоскует, не пьёт, не ест,
Хочет в родной Мадридский уезд.
Ему Россия не дорога –
Не дороже испанского сапога!
Он за неё не отдаст живот!
В соседней палате Евклид живёт.
Евклид, конечно, не виноват,
Что кончаются лампочки по сто ватт,
Но совершенно не прав Евклид,
Что сходиться линиям не велит.
А король твердит, что так, мол, и так,
Я на треть казах, на две трети казак,
Опять же – еврей на четвёртую треть,
А пятая треть засекречена впредь.
Ну, а если бы треть шестая была,
Совсем другие пошли б дела,
Не пустая была б отнюдь болтовня,
Что в палате находится два меня!
К нам интерес проявляет шалман.
Разобрался? Шире держи карман,
В кармане дыра, только штопать на кой?
Сквозь неё до сердца подать рукой.
Легко ли бедной понять голове,
Что сидит испанский король на Москве,
Но раз уж сидит – то, значит, не зря.
Вот и утро. Слава Богу, заря.
Крик под окном: даём и берём!
Век начинается мартобрём.
Приготовиться: кажется, наш забег!
Интересный, видимо, будет век.
* * *
Не понять – не постичь – не сберечь – не увлечь – не помочь.
На задворках Европы стоит азиатская ночь.
Это клён одинокий руками разводит беду.
Это лебедь последний крылами колотит по льду.
Это гибнет листва, это ветер над нею поник.
Это в городе ночью звучит неизвестный язык.
Только миг обожди – и застынет река в берегах.
Только миг обожди – и по горло потонешь в снегах.
Для кого – для чего – отвернись – притворись – претворись
В холодеющий воздух, стремящийся в гулкую высь.
… Что ж, лети, ибо в мире ноябрь, ибо в мире темно,
Ибо в небе последнем последнее гаснет окно,
Ибо сраму не имут в своей наготе дерева,
Ибо в песне без слов беззаконно плодятся слова.
Плотно уши заткни, сделай вид, что совсем незнаком
С этим странным, шуршащим меж листьев сухих языком.
Он неведом тебе, он скользящ, многорук и безлик –
Это осени клик, это пламени длинный язык.
Это пламя голодное жёлтые гложет листы,
И поручен ему перевод с языка темноты.
Павел Макаров. Адьютант. 1920
Непросто нанести портрет на холст.
Художнику нужны азарт и смелость.
Блестящий генерал был очень толст,
и тяпнуть коньячку ему хотелось.
Не надо видеть в том большой вины,
и можно ль этим удивить потомка?
Любой поймёт: в условиях войны
винодобытье очень трудоёмко.
Копаться стоит ли в чужом белье,
вдруг лишнее найдёшь, – я понимаю.
Тот офицер стал личным сомелье
служившим только генералу Маю.
...Сперва Тифлис, а позже Бухарест,
а следом – путь на север, к Перекопу.
Он только отыскал себе насест –
но тут судьба и выдала синкопу.
Что спросишь, если морда кирпичом?
Но коль спросили – так само собою:
он ни при чём, он знает, что почём,
годится он хоть к бою, хоть к гобою.
Глаза у страха вечно велики,
однако же страшней всего при этом
смотреть, как в бой идут большевики
под лозунгом: «Вся выпивка – Советам!»
Кто пить не хочет – сразу выйди вон,
из фактов примитивный вывод сделай:
никто делить не хочет выпивон
на красный, на зелёный и на белый.
В глазах рябит, но, что ни говори,
есть пониманье в этом адьютанте:
коль генерал желает пино-гри,
так хоть из-под земли его достаньте.
Шампанское тащите и шартрез
несите, генералу потакая,
«Кокур» и «Магарач», и «Ай-Сорез»,
и не забудьте два ведра токая.
...Былое погружается в муар.
И вот для всяких сучек-белоручек
в который раз марает мемуар
не то подпольщик, а не то поручик.
Такой вот удивительный хоккей,
такой футбол на сцене ресторана:
его превосходительства лакей,
суперзвезда советского экрана.
Могила исторгает мертвеца
и даже пёс на кладбище не лает,
и длится ночь, которой нет конца,
и страшный сон кончаться не желает.
* * *
Природа слагает зелёное знамя ислама
И рушится ливнем багровых осенних отрепьев.
Комедия кончилась. Видно, готовится драма.
Григорий Отрепьев, до завтра, Григорий Отрепьев.
Димитрий, забудь, что по-летнему сердце пригрелось.
Холопов зови – посмеёмся слетающим флагам.
Кончается лето. Объявлены осень и зрелость.
Последние клёны толпятся багровым аншлагом.
Пусть карта небес побелела от звёздного крапа –
Даст Бог, расхлебаем. Да мало ли в жизни историй!
…Но с хрустом песчаным осенняя сфинксова лапа
Сметает меня и тебя, малоумный Григорий.
Листва, отлетай, заметая следы безобразий,
Пусть рушатся листья и звёзды – пустая утрата.
Эх, так-перетак, бесполезные звёзды Евразий,
Григории всякие, чёртово племя разврата.
А ждать невтерпёж, так и ждёшь, как лежишь на иголках –
Природы покров не растерзан – он ярок, лоскутен.
Пусть осень подходит – распутица, грязь на просёлках.
Григорий Распутин, до завтра, Григорий Распутин.
Самсон Суханов. Ростры на Груманте. 1840
Кто счастлив собственной работой повседневной,
тот знает наперёд, что в жизни всё – не зря.
Как должный час придёт для зрелости душевной,
так векша выспеет к началу ноября.
...На Грумант входит ночь, и небо всё слепее,
ещё чернее тьма, ещё белей снега.
В полярной тишине пять звезд Кассиопеи
подъемлют в небеса лосиные рога.
Под ними в темени хребет разлёгся острый,
чьи пики шпилями старинных городов
в сиянье северном вознесены, как ростры
замёрзших в гавани зимующих судов.
Угрюма и темна земля необжитая.
Артель обречена пережидать пургу,
скрываясь от зверей, но промышлять мечтая
ошкуя на воде, моржа на берегу.
Пока архипелаг и тёмен, и туманен,
артель беседует, ни в ком сомненья нет,
что справедлив рассказ о том, как вологжанин
медведя завалил уже в семнадцать лет.
Да только сложится судьба совсем иначе,
в поморах, может быть, он оставаться рад,
но через десять лет Самсон искать удачи
с обозом палтуса пойдёт в столичный град.
Гранит обтёсывать – тяжёленькая лямка,
которую тянуть не хочет немчура.
Он на строительстве Михайловского замка
читать научится – и выйдет в мастера.
Пусть императора сынки и свалят скоро,
но остановятся постройки неужель?
Над сотнями колонн Казанского собора
опять работает Самсонова артель.
Отнюдь не юноша, почти старик усталый,
как монотонный труд тебя не вгонит в сон?
Взаправду ль для тебя работать пьедесталы
к чужим художествам так радостно, Самсон?
Но, знаменуя труд тяжёлый и бессонный,
стоят, незыблемы с тех незабвенных пор,
твои бессмертные ростральные колонны,
что гордо выросли из Грумантовых гор.
Бок о бок много лет, день о день и ночь о ночь
ты жил среди людей, не больно знаменит,
ты вечно в камень бил, бедняк Самсон Семёныч,
и слушался тебя ну разве что гранит.
Где верные резцы, долота и зубила?
Куда пропало всё, скажи начистоту?
Хоть родина тебя и не совсем забыла,
но сэкономила надгробную плиту.
Искусству нет цены, и время не препона,
хотя окончен век и поздний гимн допет, –
и не рука уже, а тень руки Самсона
ласкает созданный Самсоном парапет.
Тюлений канон
Леониду Латынину
Деревянная вечность в стране деревянной
не мозолит глаза, не стоит за спиной,
тут звучат в воскресенье единой осанной
семь церквей деревянных деревни одной.
Идеальное место для дольних молений,
ибо здесь небосвод не особо высок,
и спокойно на лёд выползают тюлени
помолиться о рыбе насущной часок.
Чтоб хоть изредка не было в мире охоты,
утельга добормочет молитву свою
и, душевно надеясь на Божьи щедроты,
не спеша уберётся назад в полынью.
Полыхает над льдинами Божье поленце,
под которым на запад плывут облака.
Бог исправно радеет о каждом зеленце,
и следит, чтобы тот превратился в белька.
Для тюленя треска – настоящее жито,
да и прочая рыба – еда как еда,
но совсем не трескою единою сыто
ластоногое братство полярного льда.
Чем ты в море заменишь священные хлебы,
кроме там же и пойманной рыбы сырой?
Соблюдают тюленьи Борисы и Глебы
всё, о чем человек и не помнит порой.
Это верные стражи державы холодной,
что у лежбищ дежурят, тюленей храня:
непроглядная темень страны невосходной,
незакатное солнце полярного дня.
Сокровенного самого в белой пустыне
никакой не увидит внимательный взгляд:
у тюленей свои ледяные святыни,
и монахи-тюлени при них состоят.
Если час для тюленя приходит последний,
он кончает дела, и уходит туда,
где останется долгие править обедни,
канонархать под синими глыбами льда.
За медвежьи, тюленьи и прочие души
совершается в мире великий помин,
и его не понять ни живущим на суше,
ни насельникам света лишенных глубин.
И торжественно молится тайное вече,
пуще глаза во льду хороня от врагов
даже более древнее, чем человечье,
семихрамное лежбище вечных снегов.
Чезаре Ломброзо в Ясной поляне. 1898
Долихоцефалам мозговитым
салютует древняя Москва.
Если ты приехал к московитам –
очень важно посмотреть на Льва.
Он, в рубахе и портках каляных,
к мненью постороннему глухой,
в Ясных летом и зимой Полянах
занят пшённой кашей и сохой.
Лев гуляет средь коров и пасек,
бузину растит, морковь и лук;
там не скачет ни один пегасик,
их спихнул хозяин в Бузулук.
Над хозяйством он парит, как сокол,
зорко озирает каждый куст,
он следит за благородством свёкол,
огурцов, морковей и капуст.
Ест на завтрак пару-тройку редек,
помидор и миску ревеню.
Можно, подтвердит вам каждый медик,
только сдохнуть на таком меню.
Даже не пренебрегая мясом,
есть возможность сделаться святым,
но вот будь он, скажем, папуасом –
точно бы не стал он Львом Толстым.
Трудно жить среди российских дырий,
вот он и устроил чехарду:
крестится одной пудовой гирей,
а с другою плавает в пруду.
Многое ошибочно в рассказах,
может, и не надо бить в набат,
но соотношенья лобных пазух
говорят, что это психопат.
Он – властитель в собственном поместье,
но не властен в собственном уме,
а родись он где-нибудь в Триесте,
так сидел бы у меня в тюрьме.
В свете исправительных методик
никаких не надо докторов.
Я его понаблюдал бы годик –
он, глядишь, совсем бы стал здоров.
Он все сеет, только гибнут всходы,
мчит страна дорогою кривой,
зря мечтает граф кормить народы
пирогом с травою кормовой.
Дыма нет ещё от гаоляна,
страха ни в едином нет глазу,
и на святках Ясная Поляна
пляшет то медведя, то козу.
Призрак над болотами камлает,
рвутся к небу клочья бороды.
Лев, который мяса не желает,
доведёт Россию до беды.
* * *
Эту цепочку ломкою строчкой увековечу:
Шило на мыло, мыло на сало, сало на гречу.
Эта цепочка – точно по схеме, точно по слепку:
Бабка за жучку, жучка за внучку, дедка за репку.
Кружатся годы – белые враны, чёрные чайки.
Не ошибиться в качестве шила, в сортности швайки.
Цифры да цифры – как конвоиры с фронта и с тыла:
Шило на мыло. Было да сплыло. Сердце остыло.
Только бы тихо, только бы глухо, шито да крыто.
Это не ярость, это не злоба. Это защита.
Это защита от снегопада, от перепада.
Чур: не бороться. Если не дали, значит, не надо.
Можно молиться даже в канаве, даже в борделе,
Чтоб ненароком, в самом бы деле, свиньи не съели.
Чтобы, как надо, шелестом сада кончилось лето.
Боже, спасибо: даже за это, даже за это.
Всё остальное – побоку, на фиг. Не было речи.
Снеги да вьюги. Ветер на круги. Вечность, до встречи.