Высокие колонны русской поэзии
Эволюционная тяжесть
К 255-летию смерти Михаила Ломоносова
Из химической лаборатории – снимая налёт с понятия «алхимия»: великой науки, даровавшей многие открытия, и сложно комбинируя различные вещества, прорастали стихи Ломоносова:
Богиня, дщерь божеств, науки основавших
И приращенье их тебе в наследство давших,
Ты шествуешь по их божественным стопам,
Распростираючи щедроты светлость нам.
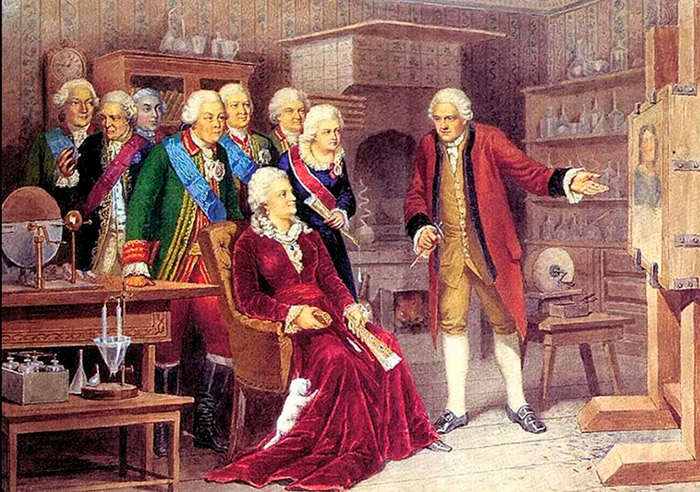 Тяжёл ли язык?
Тяжёл ли язык?
Да, но это не тяжесть мешка, набитого всякой всячиной, но – золотого слитка; это эволюционная тяжесть, если угодно: развития, возрастания, величия.
Ибо Ломоносов писал подлинно великие стихи: устремлённые в небеса, даже, ежели были игривы (тогда устремлённость сия демонстрировалась через совершенство формы); и по структурам своим гармоничные, как гармонично выстроены атомы и молекулы.
Мир раскрывается по-разному: гармонией красок и блеском стекла, которое подлежит изучению, длинными рядами химических формул, и кратким взрывом короткого стихотворения, громокипением од, и игрой минералов.
Солнце духа проступает за привычным диском, и начинается размышление, заводящее далеко:
Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И божие дела открыло:
Мой дух, с веселием внемли;
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков зиждитель сам!
Противоречия между наукой и верой ничтожны, если вдуматься: наука изучает устройство мира, а вера раскрывает свиток повествования о том, кто так устроил.
И почему.
Ковался стих Ломоносова – и лился; сверкал яхонтами и переливался перламутрами; и причудливые конфигурации минералов проступали сквозь струение словес, и стекло мысли поблескивало – всегда.
И великое устройство языка русского крепчало, а дух его пел, сияя, когда Михайло Ломоносов творил стихи.
Весть Василия Жуковского
 Весть выше новости; новаторство, двигающее ту, или иную область человеческой, высокой деятельности, равносильно вести, и превосходит новость.
Весть выше новости; новаторство, двигающее ту, или иную область человеческой, высокой деятельности, равносильно вести, и превосходит новость.
Новостью для современников были баллады Жуковского: такого не слышала русская речь, и, кажется, надмирный её источник засветился, засверкал, заиграл по-новому, сам не ожидая млечных струй новой речи.
Жуковский фактически ввёл балладу (пусть и не столь строго определяется жанр, пусть допускает различные толкования) в русский оборот, представив то, что ранее не звучало, открыв врата будущим поэтическим токам.
«Людмила» расходится широкими кругами фантазии, перехваченной реальностью, но – базируясь на реальности, она конкретна, и высотою стиха своего словно мерцает голубоватым небесным цветом, испуская световые лучи в пространство, облучая читателей почти два века (сколько их ни будь).
«Ахилл», горящий неистовством античной распри; герой, заключённый в капсулу мифа, творящего мир по своему; русский Ахилл, предваряющий собою многие словесные векторы будущего.
«Светлана» такая домашне-лёгкая, насыщенно-плотная, страшная и напевная одновременно…
Перлы, рассыпанные Жуковским, сверкали ярко; тут не жемчуг, тут высверки алмазных граней…
«Сельское кладбище» знаменует рождение элегии по-русски; не существовавшая до того, она сразу обретает размах, объём, плотность, величие; и, коли вдуматься, основная линия всей поэзии вообще – элегическая; ведь тема тем поэзии – из главнейших – время, его движение, его возможности видоизменять человека; и мы, бродя по сельскому кладбищу, и сегодня, двести лет спустя, найдём много могил, в надписи на которых стоит вчитаться.
…и звучит тайной «Невыразимое», и поэт, так живший языком и в языке, вынужден был констатировать его малость – в сравнение с бесконечными гранями природы, за которой стоит, мерцает, ощущается космический разум (гений из совсем другой сферы, никогда не слышавший о Жуковском – Нильс Бор - говорил: Я атеист, но когда глубоко погружаешься в недра физической реальности, непроизвольно чувствуешь одухотворяющее начало); и невыразимая высота невыразимых мерцаний, наполняющая шедевр Жуковского, работает и ныне, свидетельствуя о певце колоссального уровня, творившего свой мир и миф на русском языке, в недрах русского общего мифа-мира:
Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва-едва одну ее черту
С усилием поймать удастся вдохновенью...
Но льзя ли в мертвое живое передать?
Кто мог создание в словах пересоздать?
Невыразимое подвластно ль выраженью?..
Музыка и мысль
К 200-летию Афанасия Фета
Суть существительного – твёрдость, вещность, значимость.
Существительные – становой хребет речи, и построить стихотворение, используя только их, это ли – не выгранить алмаз с великолепным благородством?
Разумеется – только из них не получится, если иметь не игру, а наполнение стиха плотным смыслом, данным через лёгкую мелодику, но построить именно на нём, на существительном стихотворение, так привлекательно…
И вот – выдохнулось, округлилось, заиграло перламутрами, пошло в века:
Шёпот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
 Фет услышал новые мелодии: отличные от пушкинских, лермонтовских, вместе – такие непохожие на музыку Некрасова; только Тютчев был ему союзен: по дыханию, метафизике, музыке, хотя и пели они по-разному: к большей глобальности тяготел Тютчев, к новой музыке Фет…
Фет услышал новые мелодии: отличные от пушкинских, лермонтовских, вместе – такие непохожие на музыку Некрасова; только Тютчев был ему союзен: по дыханию, метафизике, музыке, хотя и пели они по-разному: к большей глобальности тяготел Тютчев, к новой музыке Фет…
Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.
Станицей тучки носятся,
Тепло озарены,
И в душу снова просятся
Пленительные сны.
Из нежности, из вербного счастья вырезаются строки, играют они тончайшими полутонами, оттенками; и жемчужные отливы вспыхивают драгоценно.
Каждого поэта сопровождает свой, превалирующий цвет, или цвета: если у Тютчева это зелёный, фиолетовый, лиловый, то Фет – весь именно на жемчуге и перламутре, с их отливами, разводами, с тенями утреннего неба…
Но вот возникающая тема смерти дана скорее мощно, чем изящно:
Слепцы напрасно ищут, где дорога,
Доверясь чувств слепым поводырям;
Но если жизнь – базар крикливый бога,
То только смерть – его бессмертный храм.
Тут, кажется, изящество, столь характерное для Фета отступает на второй план – больно важна философия, и именно она, через образы художественности, позволяет поэту найти только своё, неповторимое определение смерти.
Фет чувственный поэт: любовь раскрывается с замиранием дыханья, с тайным трепетом в его стихах: «В моей руке такое чудо – твоя рука. А на земле два изумруда, два светляка».
Картина психологического восприятия чувства более чем впечатляющая, и завораживает она сколько бы времени ни прошло, как бы не менялись люди…
Шумят весенние дожди Фета, звучат его романсы, полыхают свечи бала…
Музыка и мысль – два определяющих начала – были подняты поэтом на новую высоту в русской словесности, и её уровень обозначает меру посмертного признания Афанасия Фета.
Космос Константина Случевского
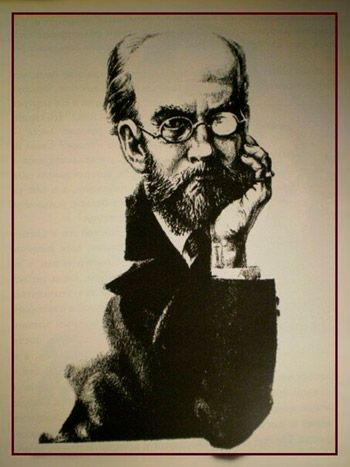 Легко ли торить дорогу веку грядущему, оставаясь в своём, девятнадцатом, литературно избыточным?
Легко ли торить дорогу веку грядущему, оставаясь в своём, девятнадцатом, литературно избыточным?
Легко ли – сквозь некоторую шершавость, шероховатость языка, – добиваться новой гармонии, что должна быть услышана в дальнейшем: не представимом, конечно?
Константин Случевский именно так вёл линии своих стихов: неосознанно, вероятно…
Вроде бы и словарь его соответствовал веку, и круг образов, тем, а было всё же в них нечто, выбивающееся за край, рвущееся туда, где закипит движение, где техника станет играть такую роль, какую пока не вообразить?
«Мефистофель в пространствах» сделан вполне на угадках века грядущего: с оглядкой на вечность… пожалуй:
Я кометой горю, я звездою лечу,
И куда посмотрю, и когда захочу,
Я мгновенно везде проступаю!
Означаюсь струёй в планетарных парах,
Содроганием звёзд на старинных осях –
И внушаемый страх – замечаю!..
И есть усталость, зыбкость от этой вечности; есть некоторое недоумение…
И опять же – тени грядущего вспыхивают в плаще Мефистофеля, и пространства, изгибаясь, роняют сомнительное, такое необходимое будущее.
Добродетелью лгу, преступленьем молюсь!
По фигурам мазурки политикой вьюсь,
Убиваю, когда поцелую!
Хороню, сторожу, отнимаю, даю –
Раздробляю великую душу мою
И могу утверждать – торжествую!..
Мефистофель в образе демиурга?
Странная подмена…
А вот – глобальность, вложенная в такое простенькое стихотворение: ясное, как спокойная озёрная вода, и тоже спокойное – от осознания поэтом многого:
Каждою весною, в тот же самый час,
Солнце к нам в окошко смотрит в первый раз.
Будет, будет время: солнце вновь придёт, –
Нас здесь не увидит, а других найдёт...
И с терпеньем ровным будет им светить,
Помогая чахнуть и ничем не быть...
С Тютчевым родство тернисто проступало в поэзии Случевского: он также тяготел к тотальному охвату, к безднам мирозданья, и космос его был перенасыщен культурными аллюзиями.
Вероятно, так и должно быть: слишком давно слагается поэтический свод человечества, слишком многое в него включено; но вот вибрации Случевского выбиваются чуть в сторону, начинают звучать так, будто поймано грядущее время.
Ощущение.
Просто ощущение.
Конечно, он был поэтом своего века.
Разумеется, он работал на пределе таланта.
И то, что мнится, будто заглянул в грядущее – не более чем зыбкая кажимость; никак не влияющая на достойное место, что заняла поэзия К. Случевского в русском поэтическом свитке.
Субстанция тайны
Тургенев как поэт
 Утро, вырезанное из тумана и сырости, утро сырое, нивы печальные…
Утро, вырезанное из тумана и сырости, утро сырое, нивы печальные…
Звучит густой, грустный, знаменитый романс, звучит, продолжая по-прежнему бередить некоторые души, хотя уже и не столь многие; звучит, отзываясь естественным узнаванием: схожие ощущения знакомы…
Тургенев был хорошим поэтом…
Он писал стихи тревожные, и наполненные субстанцией тайны: словно жизнь ему была непонятна настолько, что оставалось только дивиться, прислушиваясь к сложным вибрациям окрестного мира, и тонким – собственного психического состава:
Брожу над озером... туманны
Вершины круглые холмов,
Темнеет лес, и звучно-странны
Ночные клики рыбаков.
Полна прозрачной, ровной тенью
Небес немая глубина...
И дышит холодом и ленью
Полузаснувшая волна.
Литые, точно сделанные строки; ясно и чётко выписанные картины.
Он писал в основном о природе, переживая её, как гигантскую панораму, в которую вовлечён человек – малой единицей, правда, способной чувствовать, отображать…
Он писал о природе грозовой и спокойной: и всегда отражающейся в душе; он тонко чувствовал – автор знаменитых романов и рассказов; достаточно тонко для того, чтобы писать хорошие стихи…
Поэтическое наследие его не велико, но оно изящно и уверенно дополняет огромное прозаическое…
Плюс вновь и вновь звучит романс: Утро туманное…
Иллюстрации:
А.Д. Кившенко: «М.В. Ломоносов показывает Екатерине II
в своём рабочем кабинете собственные мозаичные работы», до 1890;
А. Новоскольцев «Светлана», 1889;
В.Э. Борисов-Мусатов «Весна», между 1898 и 1901;
Юрий Селиверстов «Константин Константинович Случевский»;
Я.П. Полонский «Портрет И.С. Тургенева» 1881 год.