Трагический жизнелюб
Юрию Ряшенцеву – 90! Не верится. Удивительно цельный, гармоничный человек, «трагический жизнелюб». Большой русский поэт. Наш любимый автор. Сегодня, накануне замечательного юбилея, Юрий Евгеньевич беседует с нами.
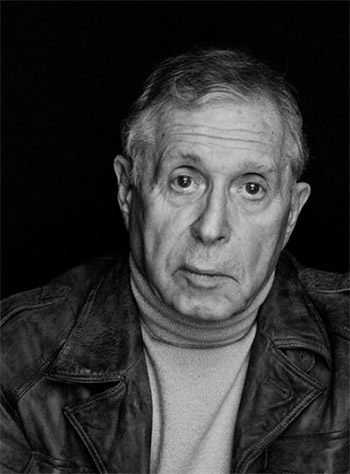 «45-я параллель»: Юрий Евгеньевич, Вы родились в Ленинграде, но с раннего детства жили в Москве. Кем Вы себя чувствуете: москвичом? Питерцем?
«45-я параллель»: Юрий Евгеньевич, Вы родились в Ленинграде, но с раннего детства жили в Москве. Кем Вы себя чувствуете: москвичом? Питерцем?
Юрий Ряшенцев. Конечно, москвичом: мне ведь было три с половиной года, когда мы переехали в Москву. Хамовники – вот место, где прошло моё детство.
Но, приезжая в Ленинград, сразу чувствовал что-то своё, родное. Мы вначале жили на Невском, напротив Александринки. А уже перед переездом в Москву перебрались на острова, на Большую Пушкарскую. Сегодня это тоже близко к центру.
«45-ка»: Ваш ровесник Герман Плисецкий был приговорён к «пожизненному» стихописанию в 1937, шести лет. А когда начали «жить стихом» Вы?
Ю. Р. С Германом мы были близко знакомы. Остроталантливый поэт, который вынужденно стал переводчиком. И, к сожалению, очень рано умер.
А я первое стихотворение написал ещё раньше, в четыре года. Просматривая свои детские стишки, обнаружил, что они вполне грамотно написаны. То есть они пустые, поэзии там ещё не было, но по форме это крепкие стихи.
«45-ка»: Получается, что у Вас с рождения – абсолютный поэтический слух? Вроде музыкального, только на слово.
Ю. Р. Да, мне это говорили, почти такими же словами. У нас был сосед, писатель Борис Папаригопуло, которому я, будучи подростком, показывал свои стихи. Он так страдал без квартиры, что написал себе эпитафию:
Зачем листва так яростно шумит,
И птичья стая крыльями захлопала?
Под камнем сим впервой без кашля спит
Борис Папаригопуло.
И я неожиданно для себя через полчаса принёс ему ответ:
Борис Владимирыч, Вам рано опочить.
И пусть себе листва бушует в рощах,
Желаю Вам скорее получить
Столь милую, желанную жилплощадь.
Чтоб глупый домуправ с тоской разинул рот.
Малютка чтоб, и та от злости лопнула,
Узнав, что комфортабельно живёт
В своей квартире Б. Папаригопуло.
«Малюткой» Борис Владимирович называл престарелую соседку, которую терпеть не мог.
По форме это грамотные, безукоризненные стихи. Но содержание совсем детское.
Так я и был ребёнком.
Настоящие стихи появились гораздо позже. Одно из первых было посвящено Ананури.
Это в Грузии?
Да, грузинская крепость. Вот несколько строчек оттуда:
так ясно у ананурской стены, что тот не судья, кто себя не судит.
Это в привычках народных святынь – становиться святынями личных судеб.
Потому что – куда нам ещё, – куда? – в дни, когда всё так нестойко, зыбко,
И нельзя не плакать, но плакать нельзя – останавливает каменная улыбка,
останавливает, завораживает, заставляет понять,
что и ты – лишь летучее семя жизни,
но дождутся лишь плоти, а сути твоей – перемрут,
не дождутся могильные слизни.
Моя философия.
Юрий Евгеньевич, Ваше стихотворение «Чай, четвёртый год победы на дворе…» по настрою стыкуется со стихотворением Владимира Корнилова «Трофейный фильм». Ваша юность совпала с очередным пиком сталинских репрессий. Чувствовали ли Вы ужас времени, когда страной правит «вождь в законе», а единственная дарованная им «свобода» – «зреть раздетую Марику Рокк»? Или понимание, осознание пришли позже?
Ну когда я писал своё стихотворение, то Володиного ещё не читал. Осознание, конечно, пришло позже. Тогда я был обычный советский мальчик, во всё верящий. Хотя репрессии и коснулись нас напрямую: и отец, и отчим были репрессированы, отец погиб.
Меня вырастила мама. Всем, что во мне есть, обязан ей. Она была очень способным к художеству человеком. Крючком вязала удивительные наряды, которые у неё покупали даже жёны дипломатов. Мамины платья попадали в Париж!
Вы закончили МГПИ, настоящую кузницу поэтических кадров, могущую дать фору Литинституту. Но во время учёбы поэзия ещё не потеснила педагогику: Вы окончили институт с красным дипломом и не один год проработали учителем. Что послужило толчком к смене профессии?
Стихописание мне легко давалось, иногда в виде развлечения. Но относиться к поэзии, как к самодеятельности, избегал уже тогда. Может, поэтому никогда не увлекался авторской песней.
Уже во время учёбы знал, что не стану учителем. Что-то во мне говорило, что буду заниматься литературой. Но поэтом становиться почему-то не хотел, мне эта профессия казалась несерьёзной. Я и занимался первое время чем-то околопоэтическим: редактурой, переводами. Пока Олег Чухонцев не позвал меня в «Юность». А никого ближе Олега в поэтическом мире у меня никогда не было. В «Юности» уже была поэзия в чистом виде. И я этого, безусловно, интересного блюда переел.
Во время Вашего интервью Виктору Шендеровичу мы услышали, как Вы убедили его, писавшего в молодости стихи «в товарных количествах», оставить поэзию.
Витя молодец. Благодарить человека, который вынудил тебя отказаться от собственного увлечения! По сути, я его тогда отверг. А что он замечательно состоится в других жанрах, никто знать не мог. Мало кто способен так объективно смотреть на самого себя. Редкий дар!
Вы много лет активно занимались волейболом и спортивный опыт удивительным образом отражается в Ваших стихах, которые сочетают в себе красоту, изящество – и резкость, ударность. «Волейбольное» сочетание, правда?
Ну, волейболом я занимался только в молодости, до тридцати. Сразу понял, что с моим обычным ростом вершины не светят. Был всего-то перворазрядииком.
Потом появился настольный теннис, который очень любил (одно время моим партнёром был Роберт Рождественский, играл он классно). А следующим, самым длительным, увлечением стал большой теннис. Пришлось отказаться от ракетки всего пять лет назад. Сейчас плаваю.
Насколько занятия волейболом повлияли на мои стихи? Не знаю. Вообще стихописание, по-моему, это какой-то физиологический процесс, не совсем (или не до конца) зависящий от нас.
К которому мы присоединяемся неожиданно для самих себя.
Верно! Насчёт резкости, ударности. Вы как пишете стихи, в каком положении?
Сидя.
Вот. А я часто лёжа. Меня же не случайно в детстве называли Ильёй Ильичом. У меня и «Романс Обломова» есть. Помните:
Халат – спаситель тех людей,
кто до пустейших дел нелаком.
Он покровитель тех идей,
какие и не снились фракам.
Хотел бы только одного:
прожить без почестей и злата,
не задевая никого
свободным рукавом халата.
 Это тоже Ваша философия.
Это тоже Ваша философия.
Конечно. Я никогда не был целеустремлённым человеком, старался жить в своём режиме, делать то, что люблю, и так, как люблю. Когда меня никто не торопит, могу делать дела почти мгновенно, за три секунды. И кроме того, из лежачего положения подъём бывает резким, неожиданным. И стих будет таким же. Понимаете?
Да, спасибо! Юрий Евгеньевич, Вы совсем не писали советских стихов. Как это могло произойти?
Писать о Ленине, партии и прочее мне всегда казалось недостойным поэзии, вот я и вёл себя соответственно. Поэтому меня и не печатали так долго. Кстати, у Олега Чухонцева – та же история по той же причине. Недаром мы дружим столько лет!
Вы никогда не называли себя «шестидесятником». Шестидесятники – это Окуджава, Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина. А к кому относите себя Вы?
То, что называли «тихой поэзией», к ней относятся и Владимир Соколов, и Олег Чухонцев, и Герман Плисецкий, и Саша Кушнер. Нас всегда пытались поссорить с «эстрадниками», натравить друг на друга. А мы прекрасно друг к другу относились. Тянулись друг к другу.
Как Вам работается сегодня? Лучше, чем в советские времена?
Знаете, грех жаловаться. После пятитомника, который у Вас есть, вышло ещё несколько книг. Два новых сборника на подходе. Стихи, к счастью, пишутся.
Сейчас идёт наш ежегодный конкурс «45-й калибр». И стихи некоторых участников производят впечатление.
Много таких ребят?
Немало. Двузначное число.
Вот видите. Мне в каком-то интервью приписали фразу, которую не говорил: «Страна нормально талантлива». На самом деле я сказал: «Страна ненормально талантлива». Вообще не понимаю, зачем мы соревнуемся по каким-то вооружениям. Нам нужно соревноваться в области искусства: в поэзии, в живописи, в музыке...
Что бы Вы пожелали молодому поэту сегодня? Отдаться своему дару до конца, без оглядки? Или...
Ну, это как посмотреть. Поэзия сегодня, увы, никого не кормит. Поэтому не обойтись без дополнительного – точнее, основного – заработка. Я ведь тоже всегда этим занимался. Но как-то так сложилось, что все мои занятия – и редактура, и работа паролье, и переводы – были неотделимы от поэзии.
А что делать немолодому поэту, который львиную долю сил и времени посвящает «кормящей» профессии? Есть ли выход?
Ну, если это возможно, хорошо бы работать на полставки, два-три дня в неделю.
А если невозможно?
Стихи случаются?
Редко. Когда припирает.
Что тут скажешь... Можно только посочувствовать. Но поэзию не оставлять. Ни в коем случае.
28.04.2021.
Интервью брал Борис Суслович