№ 20 (332) от 11 июля 2015 года
Работник Русского ренессанса
Николай Степанович Гумилёв (3 (15) апреля 1886, Кронштадт – 26 августа 1921, под Петроградом) – выдающийся русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер.
«45»: рекомендуемые ссылки –
 Гумилёв – редкая личность («исключительная», – говорила А. Ахматова). Было несколько уровней этой крупной индивидуальности: яркий поэт, проницательный критик, организатор литературы, путешественник, воин. Сам же он, по словам Ахматовой, больше ценил в себе две последних особенности. С ними связаны напрямую волевой строй, мужественное начало его поэзии, а в ней действенное отношение к миру.
Гумилёв – редкая личность («исключительная», – говорила А. Ахматова). Было несколько уровней этой крупной индивидуальности: яркий поэт, проницательный критик, организатор литературы, путешественник, воин. Сам же он, по словам Ахматовой, больше ценил в себе две последних особенности. С ними связаны напрямую волевой строй, мужественное начало его поэзии, а в ней действенное отношение к миру.
Конквистадорский задор – это в юности. У Гумилёва-мастера активный подход становится способом одухотворения мира. Отсюда утверждающая тональность его стихотворений. «На пути отрицания, – говорил он, – не добиться истинной поэтической формы». Мы, читатели, чувствуем в его стихах душу человека, «который любит мир и верит в Бога». И ещё одно свойство его творчества – вера в волшебную силу слова, героически безнадежное стремление вернуть поэзии магическую силу, какой, как считал он, поэзия была исполнена в древности.
Короткая по числу прожитых лет, но насыщенная действием и мыслью биография Гумилёва видится единосущной с пройденным им творческим путем. Ценно всё, что касается его художественного наследия, но равно важны подробности, освещающие жизненный путь. Первый поэт той эпохи, Александр Блок, смотрел на свою современность с горечью и скептически. Его оппонент, даже антипод, Гумилёв, сознавал себя работником Русского ренессанса. Он рано прочувствовал – и это было его открытием, – что кто-то должен утверждать в русской поэзии героический дух и интенсивную волю к жизни. На золотой период Серебряного века пришлась творческая зрелость Гумилёва. В двадцатом столетии это самый вдохновляющий образ русского поэта: в его стихах мы читаем историю одной прекрасной души. Образ поэта завораживал, взывал к разгадке и вызывал подражания. Этот образ устремлённо создавался им самим, а посмертно был завершён другими – и его спутниками, и поэтами, лично Гумилёва не знавшими.
Кем, каким человеком Гумилёв хотел видеть самого себя? История самореализации ярко талантливой личности – это большая тема. Часто говорилось, что Гумилёв свёл музу с неба на землю, что он отошёл от символистов, к числу которых и сам принадлежал в начале своего пути. Но как в доакмеистический период, так и в дальнейшем он мыслил человеческое «я» в космическом ключе. Работа духа состоит в том, чтобы личность воссоединилась с её вселенским истоком. Это дело религии, но уместна и поэзия, если поэт сознаёт, что его задача находит решение в сферах духовных. «Это совсем особенное чувство, иногда наполняющее таким трепетом, что оно мешало бы говорить, если не сопутствующее ему чувство победности», – утверждал Гумилёв.
Если как подарок нам дана
Мыслей неоткрытых глубина,
Своего не знающая дна,
Старше солнц и вечно молодая...
Если смертный видит отблеск рая,
Только неустанно открывая...
Эти строки из «Открытия Америки» он отделывал в Средиземном море на пути в Абиссинию в 1910 году. Даже после того как весной 1912 года провозглашён им был акмеизм, Гумилёв в своём творчестве шире собственной теории, поскольку устремление к высшим уровням сознания составляло сущность его поэзии.
Меня, кто, словно древо Игдразиль,
Пророс главою семью семь вселенных
И для очей которого, как пыль,
Поля земные и поля блаженных...
Он писал с фронта Ахматовой: «Ты ведь знаешь, что поэты – пророки». И в другом письме: «Грустно только, что здесь инициатива не в моих руках, а ты знаешь, как я привык к этому». Инициатива проявлялась в его жизни постоянно – в путешествиях, в открытии кружков и обществ, основании журналов, организации литературного процесса, в создании литературного направления с весьма значимым для Гумилёва названием «акмеизм», то есть пик, острие, высшая точка достижений. Инициатива проявлялась в благотворном влиянии на окружающих его поэтов. Значительность его личности заметна была даже внешне. «Всё, что ни делал Гумилёв, он как бы священнодействовал», – вспоминал его фронтовой товарищ штаб-ротмистр Карамзин. А вот воспоминание Адамовича, познакомившегося с Гумилёвым ещё до начала войны, на которую Гумилёв (единственный из своей среды) пошёл добровольцем, «охотником», как тогда говорили: «В Гумилёве была большая жизненная сила, какая-то весёлость и вера в своё счастье и удачу. Это заражало и влекло к нему». Несравнимым, «редким пиршеством для ума», говорил Адамович, была беседа с ним наедине. В разговоре с глазу на глаз проявлялись гумилёвская мудрая простота, ясность суждений, обширность познаний.
|
Георгий Адамович |
Думая о спутниках Гумилёва, видишь перед собой плеяду молодых поэтов, но ещё и целую портретную галерею писателей, критиков, художников, учёных, встретившихся Гумилёву на жизненном пути и, конечно, сыгравших заметную либо малоприметную (но всё же опредёленную) роль в его судьбе. Личность Гумилёва отразилась или преломилась в индивидуальном сознании современников. А потомки видели его уже не в свете отдалённого от них времени, а чуть-чуть иначе – в лучах времени своего собственного. На первом месте среди современников – Анна Ахматова, не оставившая о Гумилёве связных воспоминаний, но годами собиравшая его наследие, посвятившая ему стихи при жизни и написавшая стихи в память о нём.
Отношения с Ахматовой – тема сложная. Это единоборство двух в высшей степени незаурядных личностей. Ахматова писала, например: «Уже очень рано – в “Пути конквистадоров” – в Царском селе я стала для Гумилёва (в стихах) почти Лилит, то есть злое начало в женщине... Он говорил мне, что не может слушать музыку, потому что она ему напоминает меня». И ещё об этой любви-борьбе: «Трагедия любви очевидна во всех юных стихах Гумилёва». Кое-что проясняют лаконичные строчки в записных книжках Ахматовой. Она писала, что Гумилёв породил «целые полчища учеников», особенно посмертно. Называет Ахматова три имени – Тихонов, Шенгели, Багрицкий – и затем расширяет тему: «Им бредила вся литературная южная Россия». «У Гумилёва было множество учеников в узком смысле слова», – утверждал Адамович, и можно со знанием дела добавить, что им «бредили» молодые поэты первой волны эмиграции.
Встречи с Гумилёвым оставляли сильное впечатление. Среди его спутников где-то на первых местах мы видим Осипа Мандельштама. Для него Гумилёв был самым близким другом из всех, кого Мандельштам когда-либо называл этим словом. Мандельштам поэтом родился, но таким крупным, каким он стал, помог ему сделаться Гумилёв, разбиравшийся в стихах, как мало кто в целом поколении. Расстрел друга стал для Мандельштама потрясением всей жизни. После гибели Гумилёва Осип Эмильевич продолжал «общение» с ним. «Разговор с Колей никогда не прерывался и не прервётся», – писал он Ахматовой.
|
|
Такого же рода признание находим у Георгия Адамовича. В его письме Гумилёву есть строки: «У меня... привычка вести с Вами полуоппозиционные разговоры, а в сущности я Вами – Вашей ролью и стойкостью среди напора всякой “драни” – давно и с завистью восхищаюсь. Вы настоящий “бедный рыцарь”, и Вас нельзя не любить, если любишь поэзию». «Рыцарь бедный» – это пушкинский паладин:
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
|
Георгий Иванов |
Георгий Иванов, знавший Гумилёва девять лет, встречавший его и на людях, и наедине, в маске, которая стала второй натурой, и в домашнем халате, вспоминал о нём: «Бесстрастная, почти надменная маска сноба, африканского охотника, “русского Теофиля Готье” скрывала очень русскую, беспокойную и взволнованную, не находящую удовлетворения душу. О, как далёк был в сущности своей Гумилёв от блестящего и пустого Готье! Он сам это хорошо сознавал. Но, сознавая, с тем большим упорством... шёл раз выбранной дорогой – линией наивысшего сопротивления». В каком же направлении была прочерчена или, скажем, предначертана эта линия? По Георгию Иванову, много писавшему о Гумилёве, вся его жизнь была посвящена единственной цели – помочь вспомнить и понять то, что мы забыли:
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово – это Бог.
Г. Иванов свидетельствует, что его друг практически всю свою жизнь наталкивался на холод равнодушия и непонимания.
При жизни Гумилёва его книги были известны преимущественно в литературной среде. Некоторая известность началась с «Жемчугов» и распространялась медленно. Три года, проведённых на войне, затем ещё год за границей и последний период (1918-1921) в замерзавшем, вымиравшем Петрограде – всё это мало способствовало известности и влиянию, о котором мечтал Гумилёв. Массового читателя он не имел. Бальмонт в начале века, затем Блок, затем Игорь Северянин известны были несравненно шире, были почитаемы массовым читателем. «Он же, и это его очень огорчало, был долгое время окружён каким-то злорадным молчанием», – свидетельствовал К. Чуковский. «Всякий, кто близко знал Гумилёва, – вспоминал Г. Адамович, – подтвердит, что при жизни его мало любили и что он от этого страдал... Я помню, как года за три до смерти, просматривая в газете одобрительную рецензию на стихи какого-то начинающего поэта, он с грустью сказал: “Если бы хоть раз обо мне кто-нибудь так написал”».
Слава к нему пришла в одночасье, но это была посмертная слава. Как-то сразу, свободным широким прибоем открылись свойства его волнующего, властного, благородного стиха. Стало ясно, что ушёл из жизни поэт всенародного значения. Хвала ему, человеку и поэту, зазвучала в русских строфах на пяти континентах. Прижизненную литературу о Гумилёве вряд ли можно назвать богатой. Несколько десятков рецензий да не слишком частые упоминания имени в разных статьях – вот и всё. И это в ответ на пятнадцать книг, вышедших на протяжении семнадцати лет литературной работы. До рокового августа 1921 все стихотворения с упоминанием имени Гумилёва либо прямо посвящённые ему написаны хорошо знавшими его поэтами, видевшими его часто: Анненским, Ахматовой, Городецким, Зенкевичем, Вячеславом. Ивановым, Георгием Ивановым, Кузминым, Мандельштамом, Нарбутом, Одоевцевой. Исключение – стихи Сергея Гутана, встретившего Гумилёва лишь раз. Другое исключение – стихи саратовского поэта Виктора Журина, который с Гумилёвым вообще не встречался.
Из откликов на смерть Гумилёва самым известным остаётся волошинское «На дне преисподней» (1922). Оно включает сильную многократно цитированную строфу:
Тёмен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведёт
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.
|
|
А. Ахматова в 1921 году написала несколько поэтических монологов от лица Гумилёва. Они психологичны, каждый раскрывает какую-нибудь психологическую коллизию их трудных отношений. В этих стихах нет образа поэта, но о Гумилёве-человеке ни раньше, ни позднее никто так не писал и, кроме Ахматовой, написать никто бы не мог. В поэтической Гумилёвиане эти стихи единственные по исповедальности, психологизму. В них звучит голос Гумилёва, расслышанный сквозь смерть. Его образ в них совершенно иной, чем во всех других стихотворениях, ему посвящённых. Имени Гумилёва в ахматовских стихах той поры мы не найдём, хотя оно тогда ещё не попало под полный запрет.
Георгий Иванов после гибели друга собрал и издал в советском Петрограде две книги Гумилёва – «Посмертные стихи» и «Письма о русской поэзии». В 1924 году в советском издательстве ещё могла выйти в переводе Гумилёва, Г. Иванова и Г. Адамовича «Орлеанская девственница» Вольтера. В следующем году в большой московской антологии «Русская поэзия ХХ века» находим превосходно составленную подборку стихотворений Гумилёва. Тогда же появляются в печати стихи недругов – например, Городецкого и Багрицкого.
|
Сергей Городецкий и Николай Гумилёв |
Городецкий называет своего бывшего товарища по Цеху поэтов «слепцом, врагом восстания», а гибель его – «бессмысленной», ибо Гумилёв, по уверению Городецкого, «спокойно смерть к себе позвал». Багрицкий, многому научившийся у Гумилёва, принимает в «Стихах о поэте и романтике» (1925) сторону палачей:
Депеша из Питера: страшная весть
О чёрном предательстве Гумилёва.
Виновата в гибели поэта Романтика с большой буквы, от лица которой написана следующая строфа:
Я мчалась в телеге, просёлками шла,
И, хоть преступленья его не простила,
К последней стене я певца подвела,
Последним крестом его перекрестила...
Иная картина в литературе русского зарубежья. Здесь образ Гумилёва стал частью литературно-тематического репертуара. Здесь мы видим не только изобилие стихов о Гумилёве или с эпиграфом из его произведений, но и рецензии на посмертно изданные книги и много статей, эссе, исследований, воспоминаний. Увлечённость его поэзией проявлялась в зарубежье устойчиво, по нарастающей. К десятилетию со дня его смерти появилось в зарубежной печати даже больше откликов, чем к десятилетию со дня смерти Блока.
 Эдуард Багрицкий Эдуард Багрицкий |
Многие из тех, кто знал Гумилёва лично, оказались в эмиграции. В Париже жили Г. Адамович, Г. Иванов, И. Одоевцева и царскосёл Н. Оцуп, слышавший от Гумилёва, что самое важное в поэзии – раскрытие духовной сущности искусства. «Гумилёв, – писал Н. Оцуп, – приглашал нас “вглядеться именно в этот образ”».
|
|
В Болгарии жил Александр Биск, известный как первый в России переводчик Рильке. Вместе с тем он – оригинальный поэт, встретивший двадцатилетнего Гумилёва в Париже, когда вчерашний выпускник Николаевской Царскосельской гимназии приехал поступать в Сорбонну. В Финляндии жил Вадим Гарднер, бежавший из красного Петрограда в год расстрела Гумилёва. Прошло не так уж много времени с тех пор, как Гарднер в конце мировой войны возвращался из Лондона в Россию. Он вспоминал в своём дневнике в стихах о двенадцатидневном плавании в одной каюте с Гумилёвым на океанском транспорте, сопровождаемом британскими миноносцами. А ещё раньше Гарднер был принят Гумилёвым в Цех поэтов. Гумилёв писал о нём в «Аполлоне» и предложил напечатать его стихи в «Гиперборее». В Петербурге встречался с Гумилёвым Всеволод Пастухов, в эмиграции ставший знаменитым пианистом, но не забывшим и призвание поэта. Он жил в Риге, затем в Нью-Йорке, где стал редактором журнала «Опыты», чем-то напоминавшего «Аполлон». Ещё больше было в русском зарубежье людей, которые знали Гумилёва не долго и не близко, но встречались с ним и оставили воспоминания. Жившая до войны в Варшаве София Дубнова печаталась в «Аполлоне», когда Гумилёв ведал в этом журнале отделом поэзии. С 1922 года в Париже жил Владимир Верещагин, родственник знаменитого художника, профессиональный певец, выступавший со своим квартетом. С Гумилёвым он встречался в годы Гражданской войны в Доме литераторов.
Старейший в эмиграции поэт, начавший печататься ещё за десять лет до рождения Гумилёва, Николай Минский,
|
Николай Минский |
ровесник Иннокентия Анненского, гимназического учителя Гумилёва, в двадцатые годы жил в Берлине. Знакомство с Гумилёвым произошло в Петербурге в 1914 году. Говорили они об акмеизме. Минский, вспоминая разговор, утверждал, что Гумилёв-поэт открывает читателю только то, что лично пережил. Гумилёв ему сказал, что, в отличие от символистов, он в своих стихах отстраняется от мистики. И всё же мысль его была устремлена вглубь, так что в конце жизни в его творчестве чаще и чаще проявлялось чувство космичности. «Душе Гумилёва судьба, быть может, предназначала воссиять огненным столпом в русской поэзии, но этой судьбе не суждено было сбыться», – писал Н. Минский.
В начале эмиграции, когда столицей русского зарубежья ещё считался Берлин, возникла в Париже литературно-художественная «Палата поэтов». Одним из её участников был художник Судейкин, нередко встречавший Гумилёва в «Бродячей собаке». Приходил на вечера «Палаты» критик Е. Зновско-Боровский, в прошлом секретарь журнала «Аполлон», в котором Гумилёв ведал литературным отделом до времени своего поступления добровольцем в уланский полк. На вечерах «Палаты» можно было встретить Андрея Левинсона, ещё одного «аполлоновца». До тех дней, когда он решился на побег из красного Петрограда, он вместе с Гумилёвым руководил французским отделом в издательстве «Всемирная литература». На творчество Гумилёва Левинсон обратил внимание раньше многих других, написав рецензию на «Романтические цветы», второй сборник тогда ещё почти неизвестного читателю поэта. Когда после расстрела Гумилёва эмигранты устроили в Париже митинг протеста против красного террора, Левинсон выступил с речью о гибели лучшего поэта своего поколения. «Солнце мира, – говорил он, – это поэзия. Он свято чтил престиж и достоинство писателя и с бесстрастной дерзостью выступил в его защиту». Участвовал в «Палате» Михаил Струве, познакомившийся с Гумилёвым весной 1915 года в петроградском лазарете, куда заболевший Гумилёв был из действующей армии направлен на излечение. В «Палате» участвовал и Георгий Евангулов, живший до эмиграции в Тифлисе, помнивший дом на Сергиевской улице в армянском районе Тифлиса Сололаки. В то время, когда юный Гумилёв жил в этом доме, он впервые выступил со стихами в печати. Евангулов участвовал в тифлисском Цехе поэтов, созданном наподобие основанного в 1911 году Гумилёвым первого Цеха – петербургского. С тех пор возникло немало поэтических «цехов» в разных городах и странах: бакинский, константинопольский, берлинский, парижский, таллинский, тартусский, шанхайский. Каждый из них основан был по примеру гумилёвского. Посмертная слава оказалась несоизмеримой с прижизненной. Отсюда и эти многочисленные «цехи».
|
|
Города, в которых он побывал, вызывали у поэтов ассоциации с его творчеством. Так, у Георгия Шенгели Севастополь столь же тесно связан с морем, как и с именем Гумилёва:
Когда приезжаю в седой Севастополь,
Седой от маслин, от ветров и камней,
Я плачу, завидя плавучий акрополь
На внутреннем рейде среди батарей.
Я знаю, что здесь по стопам Гумилёва
Морскою походкой пойдёт мой катрен, –
Но что же мне делать, коль снова и снова
Я слышу серебряный голос сирен?
Ученик Шенгели, поэт Марк Тарловский, побывав через год после смерти Гумилёва в Коктебеле, прежде всего, хочет увидеть комнату с низким потолком, с видом на горы, с доносящимся шумом прилива, в которой в 1909 году были написаны «Капитаны». Трагичны последние строки этих «Воспоминаний в Коктебеле» Тарловского:
И свой народ его разъял,
Свой Бог попрал, как тунеядца!
Мы все расстреляны, друзья,
Но в этом трудно нам сознаться...
|
|
О Царском селе, о гимназии, в которой учился Гумилёв, вспоминает его младший однокашник Дм. Кленовский:
Есть зданья, неказистые на вид,
Украшенные теми, кто в них жили.
Так было с этим. Вот оно стоит
На перекрёстке скудости и пыли.
...Но если приотворишь двери в класс –
Ты юношу увидишь на уроке,
Что на полях Краевича, таясь,
О конквистадорах рифмует строки.
|
|
Некоторые начинания в литературе зарубежья строились под знаком Гумилёва. В парижском литературно-художественном кружке «Гатарапак» 1 февраля 1922 года была прочитана пьеса «Дитя Аллаха». «Был период, – пишет о парижских поэтах Ю. Терапиано, – когда по примеру Гумилёва мы собирались создать русскую парнасскую группу». У молодых литераторов особенный интерес вызывали рассказы Г. Иванова и Г. Адамовича о первом Цехе поэтов и его основателе. «В Париже всё сложилось сразу, беспрепятственно, – вспоминал Г. Адамович в лучшей своей книге «Комментарии». – В петербургские трагические воспоминания вплетались остатки гумилёвской цеховой выучки». О Гумилёве, о том, каким он был в жизни, молодые поэты расспрашивали И. Одоевцеву и Н. Оцупа, когда они приходили на сумбурные заседания парижского Цеха поэтов в кафе «Ла Боле».
|
|
В числе участников заседаний было пять поэтов, хорошо знавших Гумилёва. Позднее Оцуп защитил докторскую диссертацию о творчестве своего учителя, а Одоевцева подробно, хотя и не без выдумки, написала в книге «На берегах Невы» о своих с Гумилёвым встречах.
В память о нём парижский поэтический кружок «Перекрёсток» в 1928 году собирался в кафе «Клозри де лиля», где до войны Гумилёв бывал постоянно. В январе 1930 года Ю. Терапиано читал в Тургеневском обществе лекции о споре Блока и Гумилёва.
|
|
В июне 1930 года в Союзе молодых поэтов и писателей Юрий Мандельштам прочёл доклад «О лирике Гумилёва» на вечере его памяти. Крупный критик К. Мочульский читал лекцию о Гумилёве в Русском народном университете, открывшемся в начале двадцатых годов в Париже. Не ограничиваясь Парижем, можно заполнить страницы подробностями о том, как в зарубежье росла и распространялась известность поэта, предвидевшего, что он оставит после себя глубокий след. В Духов день в 1918 году, когда зазвонили колокола, Гумилёв сказал Ахматовой: «Я сейчас почувствовал, что моя смерть не будет моим концом. Что я как-то останусь...».
Гумилёв-путешественник любил давать своим стихам названия стран, местностей, городов. В его книгах есть «Венеция», «Рим», «Пиза», «Генуя», «Болонья», «Флоренция», «Константинополь», «Стокгольм». На карте его музы дальних странствий есть «Озеро Чад», «Транзименское озеро», «Родос», «Мадагаскар», «Красное море» и много стран – «Швеция», «Франция», «Египет», «Абиссиния», «Лаос», «Судан», «Алжир и Тунис»... и сколько ещё географических названий в его наследии: «Открытие Америки», «Африканская ночь», «Туркестанские генералы», «Норвежские горы», «Рождество в Абиссинии», «Аддис-Абеба, город роз...». Но если перечислить города и веси русского рассеяния, где было творчески воспринято влиятельное имя поэта, то этот перечень превзойдёт список гумилёвских названий.
|
|
В Аддис-Абебе много лет жил Павел Булыгин, человек яркой биографии. Его жизнь можно определить теми же словами, какими так часто говорили о Гумилёве: поэт, путешественник, воин. Он мог бы стать героем стихотворения Гумилёва «Мои читатели» («Старый бродяга в Аддис-Абебе, / Покоривший многие племена, / Прислал мне чёрного копьеносца / С приветом, составленным из моих стихов»).
О гибели Гумилёва узнал Булыгин в пустыне, куда ушёл из Аддис-Абебы с караваном. В том же стихотворении «Мои читатели» есть строка: «Возят мои книги в седельной сумке...». Это провидческие слова о русском парижанине Юрии Софиеве, писавшем в 1929 году о своей молодости:
В дни юности и трудной, и суровой
Возил, под орудийный лязг и шум,
Истрёпанные книжки Гумилёва
На дне седельных перемётных сум.
В Берлине, где процветало русское издательское дело, в двадцатые годы вышли книги Гумилёва «К синей звезде» и «Колчан». Там же через несколько месяцев после гибели поэта выходит «Антология современной поэзии», включившая стихи Гумилёва. А на открытии берлинского Дома искусств в декабре 1921 года Николай Минский рассказал о сборнике «Огненный столп», вышедшем через несколько дней после смерти поэта. В Берлине жили Раиса Блох, участвовавшая в гумилёвском Союзе поэтов, и Вера Лурье из
|
Владимир Набоков
|
«Звучащей раковины» – последнего литературного кружка, созданного Гумилёвым. Учившийся в Кембридже В. Набоков написал в 1923 году в «Памяти Гумилёва»:
Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила.
Ныне в тиши Елисейской с тобой говорит о летящем
Медном Петре и о диких ветрах африканских – Пушкин.
В Варшаве Сергей Горный, окончивший ту же царскосельскую гимназию, что и Гумилёв, напечатал в газете «За свободу» свои воспоминания. В Сан-Франциско жил Борис Волков, участник мировой и гражданской войн, путешественник, прошедший всю Азию от арабского Востока до Японии. Его сборник «В пыли чужих дорог» навеян чтением Гумилёва. Само название книги возникло под глубоким впечатлением от гумилёвского «Чужого неба». Волков входил в сан-францисский литературно-художественный кружок, в котором, как и в ряде других зарубежных объединений, был проведён большой тематический вечер, посвящённый Гумилёву.
В Египте жил поэт Петр Гладищев, поэт гумилёвской школы. В Белграде в 1928 году почитателями Гумилёва образован был «Новый Арзамас». Из этого кружка вышло несколько известных в эмиграции поэтов, в том числе лучшая поэтесса зарубежья Лидия Алексеева, родственница Ахматовой. Известный пражский кружок «Скит» первое же своё открытое собрание посвятил Гумилёву. В самом начале эмиграции в русских газетах и журналах Парижа, Берлина, Риги, Харбина и других городов появилось больше очерков, статей, рецензий о Гумилёве, чем за всю его жизнь. Здесь и ревельские «Последние новости», и берлинский «Руль», и варшавские «Меч» и «Молва», рижская «Сегодня», парижская газета «Россия и славянство», особенно часто вспоминавшая Гумилёва, гельсингфорсская «Новая русская жизнь» и харбинский журнал «Рубеж». В Харбине находим целый ряд почитателей, подражателей, знатоков творчества Гумилёва. «Василий Обухов, – вспоминает В. Перелешин, – знал Гумилёва наизусть целыми книгами». Сам же Валерий Перелешин учился писать у Гумилёва и посвятил ему несколько стихотворений.
|
|
Созданное в Харбине общество «Круг поэтов» своим вдохновением имело творческое наследие Гумилёва. Ещё раньше в Харбине возникло общество «Акмэ», объединившее шесть поэтов акмеистического направления. В 1937 году в Харбине другая группа выпустила «Гумилёвский сборник», и в нём видим имена дальневосточных поэтов – Несмелова, Ачаира, Перелешина. Харбинка Мария Визи первой стала переводить Гумилёва на английский. Среди тех, кто посвятил стихи Гумилёву, – Лидия Хаиндрова и известная своей пламенной гражданской лирикой Марианна Колосова.
О том, какой резонанс нашло творчество Гумилёва в литературе зарубежья, можно было бы писать книгу – настолько широко, продолжительно, многообразно оказалось влияние гумилёвского наследия, настолько влекущим и прекрасным представлялся в странах русского рассеяния сам образ мужественного поэта. В этой книге можно было бы с подробностями рассказать о Сергее Маковском, вместе с Гумилёвым основавшем «Аполлон», а в эмиграции посвятившем ему цикл сонетов «Нагарэль». Рассказать о белом воине Иване Савине, взятом в плен в Крыму, чудом спасшемся из плена и бежавшем в Финляндию. Героика в стихах Савина созвучна гумилёвской. Рассказать об окончившей свои дни в немецкой деревушке Оттерсвейер Марии Волковой, о которой генерал Краснов писал: «Дочь сибирского казака и уральской казачки... Страшный, неистово лютый ледяной поход через всю Сибирь... В нём – ужасная смерть горячо любимого отца, героя колчаковского похода, потеря дочери-первенца. А потом – изгнание, чужбина, бедность, сознание своей неприкаянности». Нужно было бы сказать подробно о гумилёвской линии у поэтов второй эмиграции – у Вячеслава Завалишина, издавшего в лагерях Ди-Пи четыре томика стихов Гумилёва – самое первое послевоенное издание. О прожившем пятьдесят лет на калифорнийском берегу киевлянине Николае Моршене, о Юрии Трубецком, коротавшем свои последние дни в немецкой провинции. Из всех влияний на эмигрантскую поэзию, кроме пушкинского, гумилёвское оказалось сильнейшим.
До восьмидесятых годов XX века зарубежье оставалось центром собирания гумилёвского наследия. Первые собрания сочинений Гумилёва вышли, увы, не в России, также и первые книги о нём. И совсем уж безотрадно вспоминать, что первая диссертация о поэте была написана по-французски (1952), первая монография (1978) вышла по-английски. Книга слабенькая, но и она в своё время поддержала живое тепло памяти и интерес к наследию путешественника, воина, поэта.
И только начиная с 1986 года центр изучения творчества Гумилёва перемещается в Москву и Петербург. Но разве на протяжении десятилетий его имя и наследие начисто были забыты в Советском Союзе? Забвения добивались властвующая идеология и её цензура, но целенаправленные заградительные усилия не достигли цели. Любовь к стихам Гумилёва не угасла. Интерес к его творчеству был подспудный, подпольный, тайный, и потому широким быть не мог, но всё же никогда не прекращался. У Иды Наппельбаум, поэтессы, дочери известного петербургского фотографа-художника М. С. Наппельбаума, фотографировавшего Гумилёва, в комнате висел его портрет. Портрет редкий – не фотография, а живопись художницы Шведе, для которой Гумилёв специально позировал.
|
Ида Наппельбаум
|
Ида Наппельбаум хорошо знала Николая Степановича. Когда он был арестован, она носила ему передачи. В 1937-м, в год диких ночных арестов, муж Иды Моисеевны, опасаясь обыска, уничтожил драгоценный портрет. Прошли годы, и однажды ночью за ней явились и сказали: «Мы не добрали вас в тридцать седьмом». Ей инкриминировали как дружбу с Гумилёвым, так и уничтоженный портрет, висевший в её комнате четырнадцать лет тому назад, и приговорили к десяти годам лагерей.
В Калифорнии я встречал замечательного поэта Николая Николаевича Моршена, эмигранта второй волны. Меня заинтересовало его стихотворение о Гумилёве, и он рассказал мне о своей жизни в довоенном Киеве: «В моей компании все увлекались Гумилёвым. Я случайно познакомился с одной старушкой, у которой были все его сборники, но из квартиры она их не выпускала. Однако разрешила мне приходить и переписывать всё что угодно. Я так и делал, а потом приходил в свою компанию и всё переписанное читал. Однажды в 37-ом, помнится, году, вечером в университете в антракте какого-то концерта я шёл по коридору и, проходя мимо стоявшей у окна парочки, услышал, как студент читает студентке Гумилёва. Я глянул на него, он поднял голову, и мы обменялись понимающими улыбками, как два авгура... Вот из сплава всего этого и родилось стихотворение “С вечерней смены сверстник мой...”».
Двумя годами раньше Даниил Андреев, писатель, визионер, провидец, написал в тюрьме монолог Гумилёва, мысленно произносимый им в предрасстрельную ночь. Это – одно из лучших стихотворений в поэтической Гумилёвиане:
Лишь последняя ночь тяжела:
Слишком грузно течение крови,
Слишком помнится дальняя мгла
Над кострами свободных становий...
Будь спокоен, мой вождь, господин,
Ангел, друг моих дум, будь спокоен:
Я сумею скончаться один,
Как поэт, как мужчина и воин.
|
Даниил Андреев |
В Ленинграде в пятидесятые годы можно было встретить человека с запоминающимся лицом, как бы с отрешённым взглядом. Он ходил на костылях, но вряд ли его можно было назвать домоседом: появлялся то тут, то там. Я случайно встречал его, но мало знал о том, какие замечательные он пишет стихи. Это был Роальд Мандельштам, зачинатель ленинградской поэзии андеграунда. За всю свою жизнь не напечатал он ни строчки. И только после его преждевременной смерти его красочные, звучные, тревожно-романтические стихи распространились в самиздате. Одно из лучших, написанных им, – «Алый трамвай». Не нужно было даже упоминать имени Гумилёва, чтобы расслышать в этом стихотворении благородную гумилёвскую традицию. «Алый трамвай» Роальда был двойником «Заблудившегося трамвая» Николая Степановича. Он летел по тем же звёздным коридорам времени.
|
|
Лопнул, как медная бочка,
Неба пылающий край,
В звёздную изморозь ночи
Бросился алый трамвай!
В записной книжке А. Ахматовой, не предназначавшейся для печати, есть пометка: «Дарование сильное и своеобразное...». Сказано это о Владимире Николаевиче Корнилове (1928-2002). Его стихотворение «Гумилёв», навеянное частыми встречами с Ахматовой, действительно сильное. Вот его заключительные строки:
Ни болезни, ни старости,
Ни измены себе
Не изведал... И в августе
В 21-ом к стене
Встал, холодной испарины
Не стирая с чела,
От позора избавленный
Петроградской ЧК.
|
|
|
|
Образ Гумилёва, запечатлённый в поэтической речи, встречается на протяжении почти всего ХХ века. Началось с того давнего весеннего дня 1906 года, когда Иннокентий Фёдорович Анненский подарил своему ученику Коле Гумилёву свою только что вышедшую книгу, надписав на ней:
Меж нами сумрак жизни длинной,
Но этот сумрак не корю,
И мой закат холодно-дынный
С отрадой смотрит на зарю.
С отрадой и надеждой маститый Анненский почувствовал в начинающем поэте мощный талант и вместе с благословением передал ему творческий импульс. Русская поэзия ХХ столетия – это как бы триптих: поэзия дореволюционная, пореволюционная и эмигрантская. И в каждой створке триптиха, в каждой части трилогии находим в изобилии стихи, раскрывающие, уточняющие, дополняющие образ большого русского поэта, без которого русская поэзия XX века невообразима.
Айова Сити, США
Иллюстрации:
портрет Николая Гумилёва (уголь) работы Инны Лазаревой (Филадельфия);
портреты Георгия Адамовича, Осипа Мандельштама, Георгия Иванова (работы Юрия Анненкова),
Анны Ахматовой, Сергея Городецкого и Николая Гумилёва,
Эдуарда Багрицкого, Николая Оцупа, Николая Минского, Георгия Шенгели,
Марка Тарловского, Дмитрия Кленовского, Ирины Одоевцевой, Юрия Терапиано,
Павла Булыгина, Владимира Набокова, Валерия Перелешина, Иды Наппельбаум,
Даниила Андреева, Роальда Мандельштама, Владимира Корнилова, Иннокентия Анненского.
Творчество
Подборки стихотворений
- Высокое косноязычье № 20 (332) 11 июля 2015 года
Комментарии
-
Светлана Николаю Гумилёву 20 июля 2021 года
Гумилев для меня сказочник-путешественник. Обожаю его стихи. И как же жаль, что бумага о его непричастности к делу Таганцева пришла несколькими часами позже! Пришла! но уже было поздно! Гумилева не стало! -
Сиддха Тали Николаю Гумилёву 12 сентября 2015 года
И всё-таки лучше всех о Гумилёве написала незабвенная "ученица Гумилёва " Ирина Одоевцева... -
Юдженио БРИГ Николаю Гумилёву 12 июля 2015 года
Очень солидная и значимая статья- исследование! Восхищён и искренне признателен за весомый вклад . БРАВО!!.. Удач в творчестве. -
Борис Суслович Николаю Гумилёву 12 июля 2015 года
Читал с наслаждением. Удивительное, редкостное погружение в русскую поэзию. Низкий поклон Вам, Вадим Прокопьевич! -
федор Николаю Гумилёву 9 июля 2015 года
Замечательная статья , сделанная на очень высоком уровне . Спасибо .


 Осип Мандельштам
Осип Мандельштам
 Анна Ахматова
Анна Ахматова
 Николай Оцуп
Николай Оцуп
 Георгий Шенгели
Георгий Шенгели Марк Тарловский
Марк Тарловский Дмитрий Кленовский
Дмитрий Кленовский Ирина Одоевцева
Ирина Одоевцева Юрий Терапиано
Юрий Терапиано Павел Булыгин
Павел Булыгин
 Валерий Перелешин
Валерий Перелешин

 Роальд Мандельштам
Роальд Мандельштам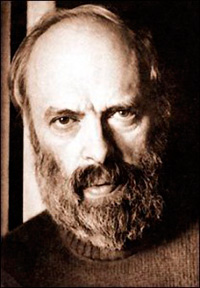 Владимир Корнилов
Владимир Корнилов Иннокентий Анненский
Иннокентий Анненский
Добавить комментарий