Капли вечности
1
 Окна души поэта должны быть распахнуты, иначе не увидеть ему ни полей жизни, ни зовущего к парению неба:
Окна души поэта должны быть распахнуты, иначе не увидеть ему ни полей жизни, ни зовущего к парению неба:
В распахнутом окне
разбег полей
не заслонён забором боязливо...
Даже если посчитать, что любая деталь мира может быть превращена в поэтическое золото, забор является той преградой, что естественно преодолима поэтическим взглядом, особенно, если стихотворение прикровно соединено с силой, определяющей жизнь – с любовью:
Такую руку удержать в своей
почти что двадцать лет без перерыва!
Поэтический воздух всегда напряжён, он вибрирует словесным электричеством, без коего стихотворение мертво, но напряжение в стихах Л. Копыловой великолепного, светлого свойства:
Но воздух, напряжённый точно нить,
не мне ослабить до разумной меры…
Стихи, исполненные высоты – или стихи высокой ноты: характерный почерк Л. Копыловой, будь то световое мгновенье, или линия печали:
Мне больно – голая доска
дождём к столбу прибита.
Дороги известковой скат –
коровьей соли слиток.
Сок любви, слово любви, вольфрамовая дуга любви, дающая свет жизни – так естественны, ибо женщина-поэт не может без этого воздуха, обречена на пустоту и немоту без него.
Одинокое творчество Копыловой (какому поэту не одиноко в мире?) согрета слоями чувства чувств, и смерть не отменит словесной высоты и силы.
 2
2
Хрустящий и колющийся, как лёд воздух – взгляд поэта, чёткая и точная оптика, позволяющая отойти от мира сует, забот, пустот:
Застыл одним кристаллом небосвод.
Какая высокая, многовмещающая, полновесная строка! – это волшебный кристалл, магия смысла, параграф инобытия.
Цветные, великолепно переливающиеся стихи Масленниковой, играющие витражами, которые упоминает она в связи с луговым светом, ощущением солнца:
Просвеченные солнцем травы
На вечереющих лугах
Так явно просятся в оправу,
В мозаику на витражах.
Её вера – церковна, недаром она была духовной дщерью А. Меня, и вместе – куда шире заскорузлости догм и театральности обрядов – её вера: благоговение перед всем земным, его приятие, его осмысление через жизнь – такую сложную, такую разную.
Такую поэтичную.
3
 Бывает ли, чтобы ангел к поэту пришёл поздно, упустив время, позволив запутаться в дебрях?
Бывает ли, чтобы ангел к поэту пришёл поздно, упустив время, позволив запутаться в дебрях?
Вероятно, бывает:
Милый ангел, поздно очень
оказался рядом ты.
Не страшны мне больше ночи,
дни мои не так пусты.
Поэт, живущий светом и к свету стремящийся, даже если понимает, как сложны и ветвисты лабиринты, какими приходится идти к нему, боится избыточного света, сулящего ослепление:
Улетай же ради Бога!
Нам не весело вдвоём.
Милый ангел, слишком много
света в облике твоём!
Будет ли поэту весело в предельно прагматичном мире? внутри человечества, давно выбравшего научно-техническую дорогу развития – ту, которая обедняет мир чувств, делает более толстыми, косными тонкие планы – а поэт и живёт на них…
Нет, веселье сулит только опьянение, и трагедия Игоря Меламеда – из той подлинной, страшной категории, что и трагедия старого английского поэта Чаттертона – бесслухость публики, равнодушие издателей, для каких (в большинстве) издание книг – просто бизнес.
Ещё одно кошмарное слово, жадно разевающее алчную пасть…
Ариадна, обладающая нитью, приходит избыточно поздно – или не приходит вообще.
…И сердцу в лад по стёклам дождь стучит
бессмысленно и скучно – вероятно,
его, как нить напрасную, сучит
возлюбленная мною Ариадна.
Вслушаться в ритмы трагедии другого – стать лучше самому… но лучше становиться – разве это про нас?
Сучи, Ариадна, свою нить, сучи годы, века – ибо что остаётся, кроме надежды на вечность – столь призрачную, столь конкретную…

4
Острое ощущение счастье может быть сконцентрировано в одной строке, и фокус этой строки отзовётся в сердце читающего радостью:
Ключи от Рая у меня в кармане.
Но… поэт без трагедии немыслим, и следующая строка обозначает её с графической жёсткостью:
А двери нет, весь дом пошёл на слом.
Последующая панорама жизни – такова, как воспринимает её поэт – развернётся суммою точных деталей, где чайник фыркнет, как конь, и отрезаемый от каравая ломоть золотится вещественностью суть.
Суть вещей скрыта, но поэт способен угадывать даже тени смыслов, и за трепетом падающий снежинок увидеть крылья ангела.
Натянулась тетива,
Ржавый ветер дует с оста.
Натянутая тетива – образ стиха, или форма жизни, может быть – формула её; но коли натянута тетива, стрела стиха сорвётся непременно, и у подлинного поэта она всегда достигнет цели – также, как в цель вонзится дорога – каждого, кто идёт.
Или мчится.
Лев Болдов мчался – будто предчувствуя скорую смерть; стихи его стремительны – и глубоки одновременно; и полынный привкус иных строк компенсируется сокровенным ощущением счастья, данным в других…
И последний баланс, который обозначает смерть (как знать, может быть, в образе прекрасной девушки?) выражает отношение гипотетической вечности к суммарной точности и тонкости стихов.
В данном случае, Льва Болдова.
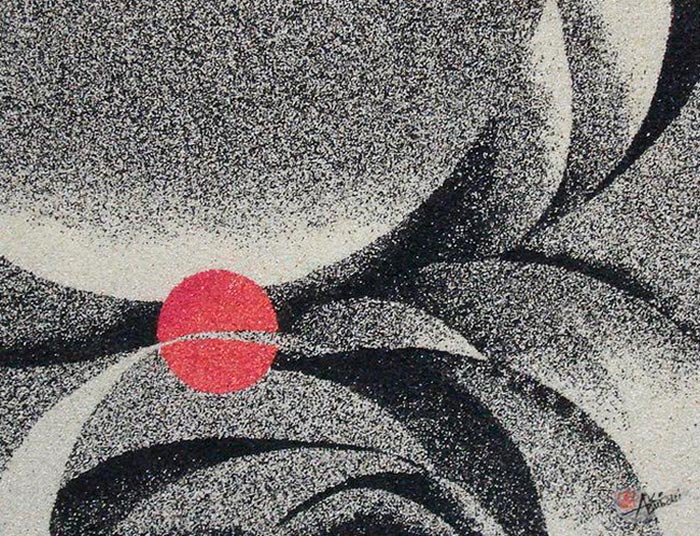 5
5
Звук ведёт поэта, преследует его, снится, определяет жизнь его, может быть, в большей степени, чем жизнь музыканта.
Изгойство поэта – тема истрёпанная, как праздник, и густота трагедии, данная ощущением:
Я – веком утраченный звук –
Подчёркивает космизм одиночество творящего стихи в двадцать первом веке.
Лестница смыслов выстраивается дальше Смогулом: через блестящую образность, через утерянный август:
Я – веком утраченный звук –
Ни отзвука мне, ни ответа.
Так, выронив август из рук,
Дождём разбивается лето,
И больше не помнит себя…
Изогнётся дуга преддекабрьского дня, инача жизнь – а финал дуги, точно эквилибрист, выбросит в реальность смерть поэта, тогда как результаты творчества не удастся списать со счетов уже никому:
Жизнь, кураж парадоксов ценя,
Всё запутает, переиначит,
На дуге преддекабрьского дня
Заскулит, забубнит, забабачит,
Заталдычит о давней вине,
Загадает дебильное чудо...
Чудо не оскорбить – как не может пятилетний ребёнок оскорбить пятидесятилетнего человека; чудо остаётся с умеющими слышать – слышать стихи, понимать их музыку, ценить индивидуальность, особость мировосприятия поэта – а данном случае великолепного Александра Смогула.
 6
6
Сирень кровеносных сосудов на щеке у старухи: образ прозаический, страшный и чёткий, будто увиденная смерть.
Образ предельно поэтический.
Ранняя своя смерть увидена сильно пившим поэтом – в недрах такого ясно-чёткого, зимне-мартовского стихотворения:
Сладко пахнет гнилая картошка.
Влажно жмурится рыжая кошка.
Синий март. Ослепительный день.
Чуть искрится морозная крошка.
…
И бормочет: «Клубeнь-голубeнь»...
Задышала, лицом изменилась,
В золотистый снежок привалилась,
И на правой щеке у неё
Кровеносных сосудов сирень.
Уверенность в силе говоримого вшифрована в жизнь поэта, порою и пустоту превращающего в стихи…
Что ж? и из пустого в порожнего следуют подчас переливать – в конце концов, это одна из характеристик времяпрепровождения.
Но:
Поговорим... Да о чём говорить...
Глупо пустое в порожнее лить,
стыдно словами играть...
Будто выплеск отчаяния, вызолоченного стихом, и, сквозь осознание невозможности, чуть ли не греховности игры со словом в жизни, где всё всерьёз, и ничего нельзя выбросить, ощущение подорванных собственных сил, когда бездна пустоты заполняется только алкоголем – мерцающим, как аметистовая Лета.
Грозит ли она поэту Павлу Белицкому?
Бог весть…
7
 То, что травинки так хороши для свистулек, свидетельствует об особой поэтической оптике мальчишки – с тетради которого начался поэт.
То, что травинки так хороши для свистулек, свидетельствует об особой поэтической оптике мальчишки – с тетради которого начался поэт.
Начался рано, когда горизонты прекрасны, и перспективы отливают морской водой.
На травке
Лучше,
Чем дома, на стуле!
Травинки
Так хороши
Для свистулек!
Стихи тринадцатилетнего мальчика уже заключали своеобразную поэтическую – и жизненную декларацию: ибо срок жизни в них обозначался интенсивностью видения, а не банальной протяжённостью неизвестных лет:
Я хочу, чтобы время бежало
Словно быстрые-быстрые лыжи
Проживу я тогда очень мало,
Но зато очень много увижу.
Глубина строки продиктована глубиной дыхания, и опытом, набранным взрослым – опытом жизни, переходящим в световые опалы мудрости, и ворона, попавшая в поэтический объектив, становится символом содержания жизни:
В одном из московских парков
Содержат ворону в вольере
И объясняют, что подопечной давно уж не сто, а за триста.
Вдаваясь в историю, можно бы строго-точно проверить,
С какой частотой прокаркав
К войне, к чуме и холере,
Приобрела эта птица если не вечность, то хотя бы
ничуть не жестокую пристань.
Собака может быть зарыта везде, а тайна поэзии, раскрываемая гранёными формулами строк, обеспечена меткостью глазомера и точностью формулировок:
Натекло на траву с бензобака;
И какой же поймёт сукин сын,
Что была тут зарыта собака –
Да покрыл её кости бензин?
Уложенная в возрастной предел шестидесяти, жизнь Владимира Лапина вся была просвечена поэзией – и то, как он сумел обратить свои годы в служение оной, говорит о чистоте и бескорыстие дара – как и о чистоте его сердца, ибо участие в правозащитном движением было тоже отчасти поэтическим актом: эстетика, опережая этику, подсказывала: мир дисгармоничен, его следует изменить…
 8
8
Тяжёлый пульс поэта, в токи крови отслеживающего токи бытия, их параллельное движение:
Слежу тяжёлый пульс в приливах и отливах,
Ах нет, не бытия, но крови к голове;
Густота стихов – от густоты жизненной плазмы, перенасыщенного раствора жизни, где любой человек, в сущности, смесь в сосуде, жаль, что золотистых и небесно-синих оттенков мало в оном.
Провидческая грусть поэта-стоика, отлившаяся в шедевральное:
Вчера я умер и меня
Старухи чинно обмывали.
Потом – толпа и в душном зале
Блистали капельки огня.
Превращается в магическом кристалле поэзии в ощущение жизни-капли, где смерть одного, будь он даже поэтом, не решает ничего, являясь возможным выходом стихотворений в лабиринт вечности:
И друг мой надевал пальто,
И день был светел, светел, светел...
И как я перешёл в ничто –
Никто, конечно, не заметил.
И в заметной незаметности поэта, возможно, ритмически и метафизически заложена часть всеобщности – той глобальной и непонятной всеобщности о которой так мистически писал старый русский философ Н. Фёдоров.
Иллюстрации:
художницы Аки Цубаки и Ксения Симонова;
рисунки из цветного песка и рисунки песком на стекле;
свободный интернет-доступ