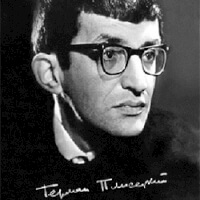Все стихи Германа Плисецкого
«Националь»
Юзу Алешковскому
В кафе, где мы с тобой сидели,
с утра разжившись четвертным,
официантки поседели,
сурово стало со спиртным.
Что было в нас? Какая сила
сильней сбивающего с ног
безвременья? Что это было?
Сидевший с нами третьим – Бог?
Туман на площади Манежной,
как будто в Сандунах в парной,
и женский образ жизни прежней
маячит в нём передо мной.
Чьи там глаза блестят в тумане
под зыбкой мглою неудач?
Ах, Соня, Соня Барбаяни,
гречанка верная, не плачь!
Начало 1970-х
Белая ночь
Без люминала, без любви
не сплю в свету рассеянном.
Тот берег площади вдали –
как остров в море северном,
как плоский остров – берег тот,
всплывающий из серых вод...
Не сплю в разливе площадей
в люминесцентном городе.
Его асфальты без людей –
как на ладони, голые.
В приливе пустоты не сплю,
топлю свою утопию:
я всё ещё тебя люблю,
я всё ещё тебя леплю
по своему подобию.
Но этот омертвелый свет –
остывший пепел сигарет.
В нём ни тепла, ни тела нет,
нет ни любви, ни боли.
Одно окно мне смотрит вслед,
и в нём – картонный силуэт
в электроореоле...
Осень 1963
Бог дал Багдад, двусмысленный Восток...
Бог дал Багдад, двусмысленный Восток,
фальшивый блеск, поток речей казённых,
фанатов нескончаемый восторг
и вдоль ограды – головы казнённых.
Повсюду сласти продают с лотка,
а я не сладкоежка, словно назло.
Хвала халифу, как халва сладка
арахисовая – и в зубах навязла.
Суровости и сладости вдвойне
душа сопротивляется упрямо.
Хоть сух закон, но истина – в вине.
Что делать мне? Переводить Хайама.
Май 1992
* * *
Большая квартира была у меня,
квартиру я на любовь променял.
Связывал с миром меня телефон.
Теперь без него – как в лесу глухом.
Там жар нагнетали пар и газ.
Теперь только страсть согревает нас.
Ванны взамен, вечерами всласть
я окунаюсь в ту же страсть.
Я вырос, не зная затрат и забот.
Обеды и прочие блага – за борт!
Была и любовь. Не хуже любой.
Но я и её променял на любовь.
1956
Василий Алексеич
Памяти дяди
Ты приходил, как вор, в цековский дом
в отсутствие родителей партейных,
не занятый общественным трудом
небритый завсегдатай мест питейных.
А в доме том в те годы по ночам
стучали в дверь – то далеко, то близко.
Но не стрелял никто и не кричал:
шла тихая химическая чистка.
Перед окном был Кремль. Поверх голов
церквей и всей пречистенской рутины
я видел: верхолаз взамен орлов
крепил на башнях звёздные рубины.
Ты приходил с гитарой за плечом –
свидетельством беспутности и дара.
О чём ты пел, бренча струной, о чём?
Я не запомнил. Я читал Гайдара.
О чём хотел сказать? Не знаю я.
О чём-нибудь, в чём мы души не чаем?
И бабка православная моя
тебя поила четвертинкой с чаем.
Потом ты сгинул, потонул, пропал
в тех далях, о которых думать зябко.
В войну пришло письмишко на Урал,
и плакала тайком от мамы бабка.
И всё. Навеки выбыл адресат,
Чтоб мама больше не стыдилась братца.
Запомнилось: «свобода» и «штрафбат»,
«отечество», «возможность оправдаться».
И всё. Как просто спичку погасить –
почти как птичку выпустить из клетки!
И бабки нет, и некого спросить,
а за окном мелькают пятилетки.
Давно всё решено, Василий. Но
порою отменяются решенья.
Мне в виде исключения дано
божественное право воскрешенья.
Пусть, кости нам колёсами дробя,
с тяжёлым скрипом катится Расея –
я силой слова оживлю тебя,
сын деда моего, сын Алексея!
16 марта 1976
Весна
Ночное метро. Наверху непогода:
туман красноватый клубится у входа,
и в мокром асфальте, как в крышке рояля –
огни, окружившие площадь роями.
Оттуда – капроны в подтёках и крапах,
и влажного драпа щекочущий запах.
А мраморный мир безмятежен и светел,
и залы ночные как будто просторней.
Подолы рванёт субтропический ветер,
и шаром прокатится гром по платформе.
И вспомнит весну полированный камень
под нашими грязными башмаками.
Ночное метро – пассажиры ночные,
вагоны шатаются, будто хмельные.
Оттуда, где были – в кино, вероятно,
в гостях, вероятно – обратно, обратно...
На лицах усталость и тяжесть в ресницах,
но пахнут весною мимозы в петлицах.
Я помню всегда: мы живём не в романах,
ключи от квартир мы таскаем в карманах,
теряли мы голову – их не теряли,
тактично бренчали они: не пора ли?
Но нас наверху стережёт непогода,
парные озёра дымятся у входа,
сугробы чернеют, перегорая,
настоены скверы на запахах талых,
и бродят автобусы, подбирая
совсем охмелевших, совсем запоздалых...
Конец 1950-х
Вокзал
Я – вокзал многолюдный. Я понял. Я понял:
все вопросы на свете решаются просто.
Я просеиваю меж бетонных ладоней
человеческих судеб сыпучее просо.
Сотни лиц в постоянном перемещенье
исчезают навеки, едва возникая.
Не ищите уюта жилых помещений
в дымных залах с транзитными сквозняками.
Я – потерянный мальчик, которого диктор
выкликает по радио долго, но тщетно.
Я – небритый пьянчуга, взирающий дико
на спешащих людей из-за стойки буфетной.
Я – турист с ярлыками, деляга с портфелем,
неудачник, всё чаще глядящий на рельсы.
Я заполнен людьми, я потерян, потерян!
Тянет в разные стороны, в разные рейсы.
Не ищите во мне одного человека,
не ищите порядка в давке и гаме.
Приходите ко мне, если нету ночлега,
забирайтесь на жесткие лавки с ногами!
1962
Второе пришествие
А. и Б. Стругацким
Еловый лес – оклад иконы,
у Богоматери – рахит,
и вертолёт средневековый
в холодном небе барахлит.
Христос, сошедши с вертолёта,
окинул взором рай земной:
шоссе, унылые болота,
припорошённые зимой.
«Отец! – взмолился Он.– Не стоит
моих мучений этот рай.
Исправь действительность, Историк,
историю – переиграй!
Не нужно чудного спасенья.
Бессмертие – на кой мне ляд?
От перегрузок вознесенья
у сына косточки болят!»
Как и записано в скрижали,
вдали чернел еловый лес,
и от него уже бежали
с винтовками наперевес.
Вдали, над самым горизонтом,
вовсю дымили трубы ТЭЦ.
Тоскливо пахло креозотом,
как и предвидел Бог Отец...
Лето 1968
Грузия
Отару Чиладзе
О Грузия! Ты – не душа ли?
Высокий край душистых трав!
Поэты русские дышали,
к тебе, как к форточке, припав.
Коснувшаяся поднебесья,
с ног не стряхнувшая земли,
ты – наша мера равновесья,
достичь которой не смогли.
Когда я думаю о Боге,
создавшем Землю за шесть дней,
хребтов пологие отроги
синеют в памяти моей.
Я славлю трудную победу
Титана, Мастера, Вола!
Мы все – зелёные побеги
вокруг единого ствола.
Мы дорастём до тех нагорий,
до той альпийской высоты,
где утихают боль и горе,
где только небо и цветы…
Начало 1970-х
* * *
Грусть по тебе сменила суетня
у праздничных столов, прилавков возле,
спокойствие законченного дня,
уверенность в неоспоримой пользе.
И всё-таки я ждал ещё. Потом
уже не ждал: не сохранилось места.
И дело не во мне уже одном,
а в комнату мою вселилось детство.
Оно впервые вылепило: па...
Оно в права вступило как наследник.
И началась уже его судьба,
и я в судьбе его не из последних.
1955
Два века
И прошлый век – ещё не из седых,
и нынешнее время – не для нервных:
два года роковых – тридцать седьмых,
два года смертоносных – сорок первых!
А между ними – больше, чем века,
спрессовано историей в брикеты:
Толстой, и Достоевский, и ЧеКа,
дистанция от тройки до ракеты.
Оттуда нити тянутся сюда.
От их реформ – до нашей перестройки.
От тройки – до ракеты. От суда
присяжных заседателей – до «тройки».
1987
День рождения
Мне четверть века стукнуло на днях.
Я не справлял. Календарю не верил.
Но вечером настырная родня
оборвала мне телефон и двери.
Дарили запонки и портсигар.
Плечо отбили. Говорили фразы.
Я стол гостеприимно раздвигал
и отвечал на все вопросы сразу.
И скоро дело стало за вином,
и лечь пораньше прогорели планы,
и угловой дежурный гастроном
мне оттянул бутылками карманы.
Салат и скука, как заведено.
Двоюродный остряк всё повторяет,
что при любом правительстве вино
в народе большинства не потеряет.
Подвыпившим уже не до меня:
в дыму витает неизбежность пульки.
Плащ в рукава – и вот моя родня:
московские кривые переулки.
1956
Детство
Детство. Заводская слобода.
Голый двор – конец моих угодий.
Детство шло, а я не знал, куда
улица булыжная уходит.
Водные колонки да торгсины,
по булыжнику колёс раскат.
Пылью, лошадьми и керосином
пахла москательная Москва.
Детство шло, задворками пыля...
Улицы сходились у Кремля.
Дом стоял. Я не узнал его.
Я вернулся: миновали сроки –
и над крышей детства моего
примостились этажи надстройки.
На площадке, отыскавши средство
от сентиментальности любой,
маляры замазывали детство:
эЛ плюс эН равняется ЛЮБОВЬ.
А вокруг, в молоденькой листве,
корпуса да небо голубое.
Вырвавшись из города, шоссе
долго тянет город за собою...
Начало 1950-х
Дом ЦК
Году, кажись, в тридцать седьмом
квартиру дали бате.
Отгрохали огромный дом
цекистам на Арбате.
В квартале старом он стоял
с особняками рядом
и переулок подавлял
гранитной колоннадой.
Внизу был нулевой этаж
и вестибюль с диваном.
Дежурил в вестибюле страж
на страх гостям незваным.
Мой батя был из работяг.
Ему переплатили.
он чувствовал себя в гостях
В трёхкомнатной квартире.
Вокруг цекисты жили те –
над нами и под нами.
И бабка их по темноте
считала господами.
Я задирал их сыновей,
от ярости бледнея,
чтоб доказать, не кто сильней,
а чей отец главнее.
На утренниках мне пакет
с конфетами дарили.
За детство наше мы портрет
вождя благодарили.
Я счастлив был. Поверх домов
на Кремль далёкий глядя,
я видел, как взамен орлов
монтажник звёзды ладил...
Мы переехали потом.
Прошло двадцатилетье,
но он всё тот же, этот дом,
колонны, окна эти.
Всё тот же нулевой этаж
и вестибюль с диваном.
Дежурит в вестибюле страж
на страх гостям незваным.
1957
Другу
Глебу Семёнову
Мы обменялись городами,
где мы любили, голодали,
нуждались, путались в долгах;
где атмосферою дышали,
единственной на этом шаре;
где мы витали в облаках.
Хватай такси в отчизне новой,
влезай в расшатанный трамвай,
на гаревом кольце Садовой
воспоминания вдыхай.
И я дарёными глазами
взгляну на город неродной:
на Невском подавлюсь слезами
при виде женщины одной.
Скачите, бронзовые кони,
в безостановочной погоне
за горьким птичьим молоком!
Ступив на дальний берег Леты,
возьмём обратные билеты
и разминёмся – в Бологом.
1961
Дым
Приморское шоссе в дыму.
Во всю шоссейную длину
лежат туманные слои.
Трескучие два-три костра
возносят языки свои
к языческому божеству,
забытому ради Христа.
Жгут прошлогоднюю листву.
Колеблясь, как язык огня,
всё дальше, дальше от меня
уходит женщина. Рукой
всё машет и глядит назад.
Сейчас за поворот крутой
свернёт – и только дым в глазах!
Дым, разъедающий глаза.
Сухая горечь. Полоса
асфальта серого. Дома
людей практичного ума.
Над каждой крышей дыма жгут.
Наверное, там письма жгут!
1962
Замыкание
Свет погас внезапно в доме.
На столе остался в томе
фантастический рассказ.
Враз погасли все программы,
все комедии и драмы,
и хоккейный матч погас.
Свет погас. В огромном доме
ничего не стало, кроме
отворяемых дверей,
кроме громких перекличек,
кроме чиркающих спичек
и снующих фонарей.
Свет погас – и оказалось,
что лицо твоё осталось
негасимое во тьме.
Так беспомощно и мёртво,
словно фосфором натёрто,
обращённое ко мне.
Как бездомно стало в доме!
Словно на ракетодроме:
дует ветер, зуб болит...
Долото весенних капель
где-то продолбило кабель
и броню бетонных плит.
1968
Западное кино
1. Федерико Феллини. «Дорога»
Каждый раз, как взвывает мотор
на крутых оборотах рабочих
и дорога с бугра на бугор
кинолентой бежит и стрекочет–
Слышу трубный возвышенный звук
над старинными городами.
Как отчаянье вскинутых рук,
этот звук тяготеет над нами.
Мы – бродячие циркачи,
мы паясничаем, как придется.
Половина из нас – силачи,
половина – канатоходцы.
Муравьиные наши труды,
бесполезное бешенство скачек
одинокое соло трубы
с высоты поднебесной оплачет.
Этот круглый мотив – колесо
неприкаянного бродяги.
Это клоунское лицо
с намалёванными бровями.
Это старая наша Земля,
потерявшая разум уродка,
переполненный цирк веселя,
вся в слезах, улыбается кротко...
2. Ален Рене. «Хиросима, любовь моя»
Кого мы ждём всю жизнь? Кого мы ждём
в безмолвном прошлом, под косым дождём?
Из стен родных бежим куда-нибудь,
из стран родных – припасть, упасть на грудь!
Туристские ночные города
влекут на дно, как в омуты вода.
В их свете предстают перед людьми
великие возможности любви.
Обуглены мы будем, сожжены
в чужих отелях, в призрачных ночах,
в объятьях суженой, а не жены,
коротким замыканьем на плечах.
И встанет, заштрихованный дождём,
беззвучный и пронзительный пейзаж...
Мы, словно катастрофы, счастья ждём,
дневной покой оберегаем наш.
Бог атомный, спаси живущих врозь,
всю жизнь свою придумавших не так
детей Земли, летящей между звёзд,
а вовсе не стоящей на китах!
3. Ингмар Бергман. «Земляничная поляна»
Профессор, вы прожили долгую жизнь.
Скажите, профессор, последнее слово.
Скажите: «Сдавайся!» Скажите: «Держись!»
Я всё зачеркну и обдумаю снова.
Нужна же опора и авторитет!
Ведь есть же предел молодому бесстрашью!
Вы прожили больше событий и лет.
Подайте совет! Вы мудрее и старше.
Иллюзии родины и семьи
проплыли за стёклами... Что же осталось?
Усталость – вот высшая правда Земли.
Седая, почтенная с виду, усталость.
И женщины чувствуют это нутром.
Плевать им на ваши заслуги и званья.
Одною улыбкой – возводят на трон.
Одною усмешкой – лишают признанья.
Вы жулик, профессор. Вы жалкий банкрот.
Морочите голову мне и соседям.
Стареющим львом притворившийся крот,
скажите: куда мы так правильно едем?
Какая награда нас ждёт впереди?
Какая тоска вырастает до крика?
На этом пути никогда не найти
душистых полян, где цветет земляника.
1963
Из книги Экклезиаста
Стихотворное переложение Германа Плисецкого
1
Сказал Экклезиаст: всё – суета сует!
Всё временно, всё смертно в человеке.
От всех трудов под солнцем проку нет,
И лишь Земля незыблема вовеки.
Проходит род – и вновь приходит род,
Круговращенью следуя в природе.
Закатом заменяется восход,
Глядишь: и снова солнце на восходе!
И ветер, обошедший все края,
То налетавший с севера, то с юга,
На круги возвращается своя.
Нет выхода из замкнутого круга.
В моря впадают реки, но полней
Вовек моря от этого не станут.
И реки, не наполнивши морей,
К истокам возвращаться не устанут.
Несовершенен всякий пересказ:
Он сокровенный смысл вещей нарушит.
Смотреть вовеки не устанет глаз,
Вовеки слушать не устанут уши.
Что было прежде – то и будет впредь,
А то, что было, – человек забудет.
Покуда существует эта твердь,
Вовек под солнцем нового не будет.
Мне говорят: «Смотри, Экклезиаст:
Вот – новое!» Но то, что нынче ново,
В веках минувших тыщу раз до нас
Уже случалось – и случится снова.
Нет памяти о прошлом. Суждено
Всему, что было, полное забвенье.
И точно так же будет лишено
Воспоминаний ваше поколенье.
Мне выпало в Израиле царить.
Я дал зарок: познать людские страсти.
Всё взвесить. Слов пустых не говорить.
Задача – тяжелее царской власти.
Всё чередой прошло передо мной –
Блеск, нищета, величие, разруха...
И вот вам вывод мудрости земной:
Всё – суета сует, томленье духа!
Прямым вовек не станет путь планет.
Число светил доступно звездочёту,
Но то, чего на этом свете нет,
Не поддаётся никакому счёту.
И я сказал себе: ты стал велик
Благодаря познаньям обретённым.
Ты больше всех изведал и постиг,
И сердце твоё стало умудрённым.
Ты предал сердце мудрости – и та
Насытила его до опьяненья.
Но понял ты: и это – суета,
И это – духа твоего томленье!
Под тяжестью познанья плечи горбь.
У мудрости великой – вкус печали.
Кто множит знанья – умножает скорбь.
Зерно её заложено в начале.
2
Сказал я сердцу: испытай себя
Не горестью, а участью благою,
Живи беспечно, душу веселя!
И это оказалось суетою.
О смехе я сказал: дурацкий смех!
О радости сказал я: что в ней проку?
Вино избрал я для своих утех
И жил, не торопясь избрать до сроку
Ни мудрости, ни глупости, пока
Не станет окончательно понятно:
Чья доля в жизни более приятна,
Чья участь – мудреца иль дурака?
Предпринял я великие труды.
Неисчислимы все мои свершенья:
Дворцы построил, насадил сады
И выкопал пруды для орошенья,
Взрастил лозу и тучные стада,
Из близлежащих областей и дальних
Танцоров и певцов собрал сюда
И множество орудий музыкальных,
Слуг, домочадцев, злата, серебра,
Каменьев – и в ларцах, и на одежде.
И больше было у меня добра,
Чем у других владык, бывавших прежде.
И не было таких земных утех,
Чтоб я сполна не насладился ими.
Умножил я богатства больше всех,
Царивших до меня в Ершалаиме.
Ни в чём я не отказывал глазам
И сердца не стеснял необходимым.
Но вот взглянул на всё, что сделал сам:
Всё оказалось суетой и дымом!
И в результате этого всего
Сравнил я мудрость и неразуменье,
Ум и безумье – ибо у кого
Есть больше матерьяла для сравненья?
И понял я, что мудрый пред глупцом
Имеет преимущество такое,
Как зрячий превосходство над слепцом
Или как яркий свет – над темнотою.
Но также понял, что один конец
И дураков и мудрых ожидает.
Зачем же зря старается мудрец
И урожай познанья пожинает?
И это – суета! Забудут всех –
Глупцов и мудрых. Смерть не выбирает.
И добродетель высшая, и грех
Неисправимый – равно умирает.
И вот тогда вознелюбил я жизнь
И все свои труды на этом свете.
Ни за одну опору не держись:
Всё это – суета, и дым, и ветер!
Возненавидел я плоды труда.
Зачем всё это восхвалять и славить,
Когда всё это временно, когда
Придется всё наследнику оставить?
Кто знает: будет он дурак или мудрец?
Тем и другим положено рождаться.
Но всем, над чем всю жизнь его отец
Трудился, – будет он распоряжаться.
И я отрёкся от трудов своих
И сердцем своим суетным озлился:
Вся жизнь в трудах, всю душу вложишь в них,
И всё отдать тому, кто не трудился?
Что остаётся? Жалкая юдоль:
Труд бесконечный, скорбь и беспокойство,
И в сердце по ночам тупая боль?
Вот труженика суетное свойство!
Под этим солнцем смертному дано:
Трудиться, есть и пить. Не так уж много.
Вот всё твое богатство, но оно
Не от тебя зависит, а от Бога.
Ты без Него не сможешь пить и есть.
А грешник – пусть богатства накопляет.
Всё – суета! Накопленное здесь
Бог весть кому живущий оставляет.
3
Есть время жить – и время умирать.
Всему свой срок. Всему приходит время.
Есть время сеять – время собирать.
Есть время несть – и время сбросить бремя.
Есть время убивать – и врачевать.
Есть время разрушать – и время строить.
Сшивать и рвать. Стяжать – и расточать.
Хранить молчанье – слова удостоить.
Всему свой срок: терять – и обретать.
Есть время славословий – и проклятий.
Всему свой час: есть время обнимать –
И время уклоняться от объятий.
Есть время плакать – и пускаться в пляс.
И сотворять – и побивать кумира.
Есть час любви – и ненависти час.
И для войны есть время – и для мира.
Что проку человеку от труда?
Что пользы ото всех его свершений,
Которые Господь ему сюда
Послал для ежедневных упражнений?
Прекрасным создал этот мир Господь,
Дал разум людям, но понятья не дал,
Чтоб человек, свою земную плоть
Преодолев, Его дела изведал.
И понял я, хоть это и старо,
Что лучшего придумать мы не можем:
Трудиться. Есть и пить. Творить добро.
Я это называю Даром Божьим.
И понял я, что все Его дела
Бессмертны: ни прибавить – ни убавить.
И остаётся нам одна хвала,
И остаётся только Бога славить!
Что было прежде – то и будет впредь,
И прежде было – то, что завтра будет.
Бог призовёт, когда наступит смерть,
И всех по справедливости рассудит.
А здесь я видел беззаконный суд.
Творят неправду, истины взыскуя.
Сказал себе я: Высший Суд – не тут.
Господь рассудит суету мирскую.
Дойди, Судья Всевышний, до основ,
Открой нам грубость истин подноготных:
Что нет у человеческих сынов
Существенных отличий от животных.
Судьба у человека и скота
Одна и та же, и одно дыханье.
Везде одна и та же суета,
Одной и той же жизни трепыханье.
Из праха Бог воззвал – и в прах поверг!
Все будем там. Попробуйте, проверьте,
Что наши души устремятся вверх,
А вниз – животных души после смерти.
Итак: живи – и радуйся тому,
Что из твоих трудов под солнцем выйдет,
Поскольку из живущих никому
Не суждено грядущего увидеть.
4
И посмотрел я, и увидел днесь:
Господство силы, тягость угнетенья,
Немилосердных властелинов спесь
И слёзы всех, лишённых утешенья.
Почтил я мёртвых больше, чем живых,
Всех, кто под солнцем плакал и трудился.
Воистину, стократ счастливей их
Тот, кто на свет жестокий не родился.
Ещё я видел, что чужой успех
Рождает в людях зависть, озлобленье,
Что суета мирская – участь всех,
Что это – духа нашего томленье.
Дурак сидит – рукой не шевельнёт,
Своим бездельем вроде бы гордится.
Мысль о насущном хлебе – вечный гнёт.
Уж лучше нищим быть, чем суетиться!
Ещё я понял: плохо одному,
Несладко быть на свете одиноку.
К чему трудиться, если никому
От всех твоих усилий нету проку?
Труды, которым не видать конца,
Оправданы супружеством и братством,
А ежели нет сына у отца –
Не радуется глаз его богатствам.
Ведь если путник не один идёт –
Другой помочь споткнувшемуся может,
А если одинокий упадёт –
Никто ему подняться не поможет.
Двоим теплее, если вместе спят.
И в драке, где один не отобьётся,
Вполне возможно – двое устоят.
И скрученная нить не скоро рвётся.
Вот юноша безвестный, живший встарь:
Он денег не имел, но был при этом
Умней, чем старый неразумный царь,
Благим пренебрегающий советом.
И вышел из темницы тот юнец,
И заменил спесивого на троне,
И царский поднесли ему венец.
И воцарился в славе и в законе!
А ведь слепые много лет подряд
В том юноше царя не узнавали.
Воистину, не знали, что творят!
Грядущие похвалят их едва ли...
Блюди себя, вступая в Божий храм,
Не жертвы приноси, а слушай Бога
Глупцов же, приносящих жертвы там,
Не надо осуждать за это строго.
7
Запомни: имя доброе важней
Богатства, красоты, происхожденья.
А если надо выбирать из дней:
Кончины день – важнее дня рожденья.
И лучше плач во время похорон,
Чем смех весёлый в блеске царских комнат,
Поскольку смертен человек – и он
Всегда в глубинах сердца это помнит.
Рыданья лучше смеха потому,
Что плач древнее смеха, изначальней.
Плач – человеку врач. Нужней ему.
Тем чище сердце, чем лицо печальней.
Поэтому и сердце мудреца
На горе откликается, как эхо,
Тогда как сердце бедного глупца
Навеки поселилось в доме смеха.
Поэтому полезней для сердец
Разительное слово обличенья,
Которое произнесёт мудрец,
Чем дураков беспечных песнопенья.
А смех глупцов – словно фальшивый блеск:
Всегда он затмевает тех, кто плачет,
Как хвороста в костре весёлый треск:
Он суетен – и ничего не значит!
Тираном став, глупеет и мудрец.
Разврат для сердца – щедрое даренье.
Начало дела – хуже, чем конец.
Высокомерье – хуже, чем терпенье.
Предаться гневу сердцем не спеши –
В груди невежд озлобленность гнездится.
И вспоминать: «Как были хороши
Былые дни!» – лишь дуракам годится.
Премудрость лучше прочего добра
И беспримерно выгоднее людям.
Хиреет ум под сенью серебра.
Познанием питаясь – живы будем.
Смиренно на дела Творца гляди.
Кто из живущих выпрямит кривое?
Счастливый – счастлив будь. Несчастный – жди.
И то Господь устроил, и другое.
Я видел в жизни много дивных див:
Порок в чести, на праведных гоненье...
Не умствуй слишком и не будь правдив
Сверх меры – не вводи людей в смущенье.
Не буйствуй, не бесчинствуй. Жизни срок
Не сокращай безумием напрасным.
Всё исполняй, что заповедал Бог.
Будь сам собою. Будь с другим согласным.
Дарует мудрость людям больше сил,
Чем десяти властителей призывы.
Нет праведника, чтоб не согрешил.
И лучшие грешат, покуда живы.
Кто верит слову каждому – тот слаб.
Премудрость далеко не в каждом слове.
Когда злословит твой лукавый раб,
Смолчи и вспомни: ты и сам злословил.
Я всё познал, желая мудрым стать.
Но свет, как прежде, от меня далёко.
Я понял: бытия нельзя познать,
Нельзя постичь того, что так глубоко.
Хотел я доказать, что грех – нелеп.
Бесчестье и невежество – убоги.
Хотел провидцем быть, хотя был слеп.
И вот к чему пришел мудрец в итоге:
Что горше смерти – женщины. Они
Для человека – кандалы и сети.
Но праведник избегнет западни,
А грешник угодит в тенёта эти.
Печален вывод сердца моего,
Итог печален, но не преуменьшен:
Из тысячи мужчин лишь одного
Достойным счёл. И ни одной из женщин.
И в заключенье, вот что я открыл:
Что мы на свет не грешными явились.
Бог человека правым сотворил.
А люди во все тяжкие пустились!
12
Пока ты молод, помни о Творце.
Пока не наступили дни без свету,
Пока, мой сын, не возопишь в конце:
«Мне радости от этой жизни нету!»
Пока сияют солнце, и луна,
И звёзды над твоею головою,
Пока не наступили времена,
Затянутые тучей дождевою;
Когда у сильных ослабеет плоть,
И стражники начнут всего бояться,
И перестанут мельники молоть,
И те, что смотрят в окна, омрачатся;
На мельницах замолкнут жернова,
Замкнутся двери в городах и сёлах,
И станет по ночам будить сова,
И смолкнут песни девушек весёлых;
Вершины станут путника страшить,
И ужас им в дороге овладеет,
И ослабеет в нём желанье жить,
И, как кузнечик, жизнь отяжелеет,
И горький зацветёт миндаль кругом,
И помрачится мир, а это значит,
Что человек отходит в вечный дом,
И плакальщиц толпа его оплачет.
Пока крепка серебряная цепь,
Тяни её, о жаждущих заботясь,
Пока цела колодезная крепь
И колесо не рухнуло в колодезь...
Земле и Богу человек отдаст
И плоть, и душу временные эти.
Всё суета сует, – сказал Экклезиаст, –
Всё суета сует на этом свете!
Экклезиаст не просто мудр. Он дал
Народу свод необходимых правил,
Он взвесил всё, изведал, испытал
И для живущих много притч составил,
Постичь стремился, чем земля жива,
И меру дать тому, что непомерно.
Я утверждаю: истины слова
Записаны Экклезиастом верно!
Подобны иглам речи мудрецов
Или гвоздям железным, вбитым насмерть.
У всех творцов неотразимых слов,
У проповедников – единый Пастырь!
Всё прочее, поверь словам отца, –
Излишество, не нужное для дела.
Писанье книг – занятье без конца,
Их чтенье – утомительно для тела.
Послушаем теперь всему итог:
Поступки совершая, Бога бойся,
Всё исполняй, что заповедал Бог,
А больше ни о чём не беспокойся.
Любое дело, что свершилось тут,
Постыдным оно было или славным,
Бог неизбежно призовёт на Суд.
Всё тайное однажды станет явным!
Из окна больницы
«Храни тебя Господь»? А для чего хранить?
Зачем мне пить и есть, если душа устала?
Хотел я помереть, когда тебя не стало.
На кладбище пришлось тебя похоронить.
Но жизнь – она цепка, крепка, когда не надо.
Нарочно не умрёшь, хоть сердце всё в рубцах.
Какой-то вышний долг, а вовсе не награда.
Кому-то нужен я. Всё у Него в руках.
«Пойдёшь со мной?» – «Пойдём».
Одёрнув юбку, встала.
Случайное такси – и мы с тобой вдвоём...
Хотел я помереть, когда тебя не стало.
Роман наоборот: «Пойдёшь со мной?» – «Пойдём».
И память холодит, как дуло пистолета,
как смертоносный ствол, нацеленный в висок.
Жизнь обещала нам любовь и многи лета,
и морг наискосок, и морг наискосок...
28 февраля 1992
Известно ли, что хорошо, что плохо?..
Известно ли, что хорошо, что плохо?
Награбленное – грабь, экспроприируй!
Жги барский дом, библиотеку Блока,
потом гордись его мятежной лирой.
Известно, революцию в перчатках
не делают. Простимте большевичку.
Я лишь о поощряемых начатках
грабительства, вошедшего в привычку.
Разграбили великую державу:
тащили всё – как на пожар спешили,
взорвали храмы, вытоптали траву,
леса срубили, рыбу оглушили.
Хозяева! Любезны сердцу войны,
спортивный марш и тупость рок-н-ролла.
Вам кланяется Герострат покойный
и первый большевик – Савонарола!
12 апреля 1988
* * *
Как просто: любовь без любви!
Как это дремуче и древне!
Зачем притворяться людьми?
Мы просто цветём, как деревья.
Всё против: слова и дела,
привычки и помыслы, кроме
наполнившего тела
тяжёлого олова крови.
Всё глушит простейший мотив
ладоней, локтей и коленей.
Мы впали с тобой в примитив
наскальных безглазых оленей.
За этот весенний инстинкт,
за то, что мы стали ветвями, –
бескрыльем мне жизнь отомстит,
а крылья растил я веками!
1963
Катастрофа
Как в сновиденье: город опустевший...
Вот что случится в старости с тобой:
лишь стукнет ставней ветер налетевший
да пыль взлетит над мостовой сухой.
Всё на местах: картины, книги, вещи.
Исчезли только люди и зверьё.
И всё родное выглядит зловеще,
и всё вокруг как будто не моё.
Налился день отравленною вишней,
и солнце освещает эту быль.
Зачем всё это сотворил Всевышний?
Полынь. Чернобыль. Небылица. Пыль...
Май 1986
Комнаты
В тех комнатах прозрачны стены.
Там действуют законы сцены.
Там не стареют, не стирают,
а только руки простирают!
В ночных рубашках – как в туниках.
Там – как в трагедиях великих.
Мы будем помнить, умирая,
те двери с теми номерами.
Мы будем видеть те подмостки,
где неуклюжие подростки
страдают, слепо доверяют,
последствий не соизмеряют
и убегают, хлопнув дверью,
по гулким лестницам – к безверью...
По тротуарам через годы
бредут, старея, пешеходы.
По мостовым бегут, старея,
трамваи и автомобили.
Стоят вокруг, как мавзолеи,
те комнаты, где мы любили.
Октябрь 1963
Кустари
Им истина светила до зари
в сыром углу, в чахоточном подвале.
Шли на толкучку утром кустари
и за бесценок душу продавали.
У перекупщиков был острый глаз.
Был спрос на легковесных и проворных.
Бездарный, но могущественный класс
желал иметь талантливых придворных.
И тот, кто половчей, и тот, кто мог, –
тот вскоре ездил в золотой карете.
И, опускаясь, дохли у дорог
к подделкам не способные калеки.
О, сколько мыслей их потом взошло,
наивных мыслей, орошённых кровью!
Но это всё потом произошло,
уже за рамками средневековья.
Февраль 1959
Леония Шарлотта Дантес
Младшая дочка Дантеса самостоятельно выучила русский язык,
знала наизусть почти все стихи Пушкина,
в её комнате висели его портреты.
С отцом она не садилась за стол.
Была признана сумасшедшей,
и умерла в психиатрической больнице.
В раннем детстве на миг перед ней
оживает семейная драма:
из глубин елисейских полей
выплывает прекрасная дама.
Очи смотрят, печаль затая,
локон вьющийся, тонкая талья...
«Папа, кто это?» – «Это твоя
петербургская тётка Наталья».
Леония Шарлотта Дантес,
дочь сенатора, баловня славы,
обнаруживает интерес
к языку иностранной державы.
Ей бы ехать на бал в Тюильри,
а она, вместо танцев на бале,
франко-русские словари
покупает на книжном развале.
Вот к обеду вернулся отец,
вот он в комнату дверь отворяет.
Леония Шарлотта Дантес
в замешательстве книгу роняет.
Для неё всё равно что к змее
прикоснуться к руке его правой...
Словно при смерти кто-то в семье,
пахнет ужасом и отравой.
Старый доктор не в силах помочь
ни советом, ни дружеской ложью:
«Наказание Божье, не дочь, –
он твердит, – наказание Божье!»
Ох, нелёгок родительский крест!
Дочка молится богу иному:
живописец Кипренский Орест
написал для Шарлотты икону.
Африканец, кудрявый пророк,
обходя океаны и земли,
это сердце глаголом прожёг,
и оно задыхается, внемля.
Ты сверкаешь, как люстра, Париж,
веселясь до утра, до упаду,
но не ты мотылька опалишь –
он летит на иную лампаду.
В доме скорби окончатся дни
безвозвратно, безвестно, бессрочно...
Где б достать твой портрет, Леони,
гадкий лебедь, племянница, дочка?
Нагло лжёт эпитафии текст
на одной из могил Пер-Лашеза:
«ЛЕОНИЯ ШАРЛОТТА ДАНТЕС –
дочь сенатора Жоржа Дантеса».
1966
* * *
Любимая, скажи: чем я тебя обидел?
Тем, что навек твоим не может быть поэт?
Что, кроме губ твоих, другие губы видел?
Но я ещё не слеп – а ими полон свет!
Беспомощно зову тебя из отдаленья,
сквозь цельное стекло, что разделяет нас.
Не покидай меня, услышь мои моленья,
покой души моей, друг сердца, радость глаз!
Но безысходно всё: стена из плексиглаза
между любовью женской и мужской.
Ни пониманья нет, ни связи нет, ни лаза
между мужской и женскою тоской.
Любимая, прощай! Тебе я стану сниться.
Лежи одна во тьме соломенной вдовой.
Когда разлепишь ты смежённые ресницы –
я окажусь, как небо, над тобой...
1967
* * *
Любимая, у нас
так много старых фраз,
красивых, гладких фраз,
готовых про запас.
Когда в сердцах обрыв,
а в голосах надрыв –
они не подведут,
по краю проведут.
................................
Любимая, страшна
мне эта тишина.
В артерию игла –
мне эта в жизнь игра.
1955
Мама
К составу уже паровоз подают.
Мы провожаем маму на юг.
Мы стоим с отцом посреди перрона,
курим, засунув руки в карманы.
Мама – в окне голубого вагона,
лицо озабоченное у мамы.
В морщинках лицо в оконном просвете
глаза мои словно приворожило...
«Не женюсь! – говорил. – Ни за что на свете!»
Ты смеялась и волосы мне ворошила.
Мама! Что там говорят мне губы? Не слышу!
Я часто не слушал, что они говорили.
А ты не спала, когда, снявши ботинки, стараясь тише,
я крался на цыпочках по квартире.
Вот отец: он уверен, что провожают,
приходя на вокзалы за час до отхода.
Он не знает, что матери не уезжают –
сыновей уносят курьерские годы.
А матери стоят на отшибе
в обнимку с годами нашими детскими,
именами уехавших по ошибке
внуков зовут и не ладят с невестками...
Мама! Не слышу! Что там говорят твои губы?
«Будете мыться – носки в комоде...»
Паровоз выдыхает белые клубы.
Поезд уходит. И мы уходим.
1956
Миг перехода между «нет» и «есть»...
Миг перехода между «нет» и «есть»
неуловим: вот был – а вот и нету.
Момент присутствия так мало значит здесь!
Вот кто-то длит его, раскрыв газету.
Продлил, но через час скамья пуста,
а через два – пуста дорожка сада,
пуста и полоса газетного листа.
А вечен только шелест листопада.
1992
Михайловские ямбы
1. Дорога в Тригорское
Он гнал коня: в Тригорском ждут гостей!
Гнал мысли прочь: повсюду ждут жандармы!
За эту ссылку в глушь своих страстей
кому сказать: «Премного благодарны»?
За эту крепко свитую петлю,
за эту жизнь, сжимающую горло,
кому сказать: «Благодарим покорно»?
Судьбе? Сергею Львовичу? Петру?
Задумавшись, он выехал из леса...
Ширь перед взором распахнулась вдруг:
налево, за холмом, была Одесса,
направо, за рекою – Петербург.
А на холме светился монастырь.
Вокруг чернели вековые ели,
кресты косые под стеной чернели.
Святые Горы – называлась ширь.
Жениться бы, забыть столицы, став
безвестным летописцем – Алексашкой,
сверкать зубами, красною рубашкой,
прилежно выводить полуустав...
Гремели слева синие валы,
плыла в пыли походная кибитка.
Гремели справа зимние балы,
и усмехались сфинксы из Египта.
1963
2. Мазурка
Ах, как пылали жирандоли
у Лариных на том балу!
Мы руку предлагали Оле,
а Таня плакала в углу.
Иным – в аптечную мензурку
сердечных капель отмерять.
Нам – в быстротечную мазурку
с танцоркой лучшею нырять.
Бросаясь в каждый омут новый,
поди-ка знай, каков конец:
что за Натальей Гончаровой
дадут в приданое свинец.
Чужое знанье не поможет:
никто из мёртвых не воскрес.
Полна невидимых подножек
дорога через тёмный лес...
И только при свече спокойной,
при табаке и при сверчке
жизнь становилась лёгкой, стройной,
как сосны, как перо в руке.
14–15 августа 1963, Йодени
3. К Вульфу
Любезный Вульф, сердечный друг,
из-за прелестницы Аннеты
мы не поднимем пистолеты:
любовь – ребяческий недуг!
Не шпагу, а бильярдный кий
я выбираю. «Не убий!»
«Не пожелай жену чужую!»
А ежли я порой бушую,
так это, Вульф, игра стихий.
Не лучше ль мирная игра
на бильярдах в три шара?
Держись, приятель! Я – в ударе.
Я знаю всё об этом шаре:
он уклонится от прямой,
внезапно в сторону качнётся
и двух других слегка коснётся,
как вас коснулся гений мой.
Люби себя, веди дневник,
а мне оставь бессмертный миг
молниеносного удара!
И так всю жизнь: верченье шара
вокруг другого – карамболь.
А в сердце боль, сосед любезный,
для мастеров – предмет полезный,
годится в дело эта боль.
1963
4. Зимняя ночь
Ночами жгло светильник ремесло.
Из комнат непротопленных несло.
Как мысль тревожная, металось пламя,
и, бывшее весь день на заднем плане,
предчувствие беды в углу росло.
Уехал Пущин. Лёгонький возок
скользит сейчас всё дальше на восток,
так он, пожалуй, и в Сибирь заедет!
Ему сквозь тучи слева месяц светит.
Дурны приметы, и мороз жесток.
«Пред вечным разлучением, Жано,
откройся мне, скажи, что есть оно –
сообщество друзей российской воли.
Я не дурак: колпак горит на воре,
палёным пахнет сильно и давно».
«Нет, Пушкин, нет! Но если бы и да:
ваш труд не легче нашего труда,
ваш заговор сильней тиранов бесит.
И, может быть, всю нашу перевесит
одним тобой добытая руда.
Вот он – союз твой тайный, обернись:
британский лорд и веймарский министр,
еврей немецкий, да изгнанник польский.
Высокий жребий – временною пользой
платить за вечность. Не переменись!»
Уехал Пущин. От судьбы не спас.
Нетерпеливо грыз узду Пегас.
Спал в небесах синклит богов всесильных,
А на земле, в Святых Горах, светильник
светил всю ночь, покуда не погас.
1965
9 марта 1953 года в Москве состоялись похороны Сталина. До этого, с 6 марта, его тело лежало в Колонном зале Дома Союзов для прощания. В первый же день возникла огромная очередь, и на Трубной площади случилась грандиозная давка: люди протискивались в узкий проход на Петровском бульваре, напирали на поставленные поперёк дороги грузовики, падали и гибли. Жертв было много, но сколько именно – осталось тайной.
Герман Плисецкий был в тот страшный день на Трубной площади и через 12 лет написал поэму «Труба», опубликованную в СССР лишь в конце 1988 года.
Молитва
Держись, моя единственная жизнь,
не убывай шагреневою кожей,
моя неудержимая, держись,
не отзывайся на звонки в прихожей!
С той женщиной, которая – как вздрог,
чья близость ненадёжнее трясины,
надменным и застёгнутым, как Блок,
при встречах оставаться – дай мне силы!
Не просыпаться с петухами нам
на сеновалах, не делиться хлебом,
не пить из тёплых крынок пополам
парного молока под этим небом.
Спаси меня, высокая строка,
от этой страсти, острой, как осока!
Спасите мою душу, облака
рассветные, парящие высоко...
Сентябрь 1963
На перекрёстке без людей...
На перекрёстке без людей
задолго до утра
уже не страшен мне злодей
с ножом из-за угла.
А страшно мне в твоей толпе,
народ глухонемой.
Китайским кажется тебе
язык российский мой.
А страшно мне, когда страна
своих не узнаёт –
словно китайская стена
вокруг меня встаёт.
Тогда вползает в рёбра страх
с Арктических морей,
и я седею на глазах
у матери моей...
1968
На тахте, в полунощной отчизне...
На тахте, в полунощной отчизне,
я лежал посередине жизни.
В возрасте Христа лежал, бессонный,
в комнате, над миром вознесённой.
Там, внизу, всю ночь, забывши Бога,
содрогалась в ужасе дорога.
Скорых поездов сквозные смерчи
налетали, словно весть о смерти.
Ничего не зная про разлуку,
женщина спала, откинув руку.
В эту ночь, часу примерно в третьем,
я лежал, курил – и был бессмертен.
1964
* * *
Негде было нам. Была зима –
самое плохое время года.
Для влюблённых улица – тюрьма,
стены и замок для них – свобода.
Парового отопленья радиаторы,
лишь о вас воспоминанья тёплые!
Тёмные парадные нас прятали,
но в парадных часто двери хлопали.
Ни о чём не знала и не ведала
молодость. Она – как крик о помощи!
А потом нам было где. Но не было
пыла, не было бессонной полночи…
Конец 1950-х
Недотрога
О. З.
Недотрога с пустыми глазами –
ты у города на виду.
Ты на сцене. Ты держишь экзамен.
Не живёшь, а играешь в игру.
Словно магниевой лампой,
блеском сцены ослеплена,
ты – одна, а в провале за рампой
жизнь загадочна и темна.
Ты не видишь людей и не знаешь.
Только чувствуешь кожей: глядят!
Словно линза лучи, собираешь
каждый жадный, восторженный взгляд.
О карьера красивой актёрки,
ни во что не вложившей души!
Я тебе не поставлю пятёрки,
сколько ты ни кружись, ни пляши.
Что ж ты плачешь, моя недотрога?
Наиграла ты всё, налгала.
А всего-то и надо – немного
человеческого тепла.
1963
Ночная площадь
Вдруг показалось: это Космоград,
ракетодром с посадочным пространством!
А вот и чёрный звёздный циферблат –
вокзальные куранты на Казанском.
И я сошёл с Серебряной стрелы,
с обычного межзвёздного экспресса,
и в памяти моей живут миры
с иною мерой времени и веса.
И незнакомой показалась мне
Москва, и на какое-то мгновенье
я вдруг вообразил, что на Земле
живут уже другие поколенья.
Дома высокие! Стучись в любой –
никто тебя не помнит и не любит!
Охладевают звёзды и любовь,
расходятся галактики и люди.
Где в Космограде переулок мой?
На землю с неба возвращаться трудно.
Я покажу прописку: я – земной!
Прошла всего лишь звёздная секунда.
1960
Ночью
Было выпито, выкурено, станцовано.
Вечеринка устала – кружилась всё медленней,
приближалась в конце концов она
к разбору галош в полутёмной передней.
Ещё кто-то отплясывал в обнимку,
хозяйка лимон нарезала в стаканы...
Ты сказала, что поздно, что Димка
дома один, что вставать – рано...
Накрапывал дождь, одинаковый с чувствами,
смутными, как фонари под ногами.
На поворотах, пустые и грустные,
троллейбусы щёлкали и моргали.
Я злился на вынужденную стоянку
у перекрестка Охотного ряда:
по улице Горького двигались танки
на репетицию перед парадом.
Гром нарастал: отдалённою тряскою –
обвалом – прорванною плотиною!
Они прошли, гусеницами лязгая,
ворочая башнями, неотвратимые.
Они прошли – и на минуту
сердце остановилось и сжалось.
И ты прижалась ко мне, как будто
на вокзале к шинели моей прижалась.
1954
Нужны тяжёлые слова…
Нужны тяжёлые слова,
друг к другу пригнанные тесно.
Раствор не нужен. Известь – тесто.
Не выстоит веков – слаба!
Стихосложенье – всё равно,
что возведение соборов.
Чтобы хоралы, грянув с хоров,
стремились вышибить окно.
И невесомым чтобы мог
стать этот неподъёмный камень.
И нужен каменный замок,
твоими тёсанный руками.
1988
* * *
О, как монотонны
и как элегичны
пустые вагоны
ночной электрички!
Закрывши глаза,
словно звучные стансы,
читаю на память
названия станций.
Мы расстаёмся
при свете плафонов.
Мы остаёмся
на мокрых платформах.
О, как одиноки
во мраке глубоком
печальные строки
светящихся окон!
Притоны влюблённых,
угла не имущих, –
вагоны зелёных,
в ноль с чем-то идущих...
1950-е
О. Х. Плисецкий
* * *
Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего не известно, –
Вот последний секрет из постигнутых мной.
* * *
Я познание сделал своим ремеслом,
Я знаком с высшей правдой и с низменным злом.
Все тугие узлы я распутал на свете,
Кроме смерти, завязанной мёртвым узлом.
* * *
Всё, что видим мы, – видимость только одна.
Далеко от поверхности мира до дна.
Полагай несущественным явное в мире,
Ибо тайная сущность вещей – не видна.
* * *
Даже самые светлые в мире умы
Не смогли разогнать окружающей тьмы.
Рассказали нам несколько сказочек на ночь –
И отправились, мудрые, спать, как и мы.
* * *
На зелёных коврах хорасанских полей
Вырастают тюльпаны из крови царей.
Вырастают фиалки из праха красавиц,
Из пленительных родинок между бровей...
* * *
Ухожу, ибо в этой обители бед
Ничего постоянного, прочного нет.
Пусть смеётся лишь тот уходящему вслед,
Кто прожить собирается тысячу лет.
* * *
Если б мог я найти путеводную нить,
Если б мог я надежду на рай сохранить –
Не томился бы я в этой тесной темнице,
А спешил место жительства переменить!
* * *
Я страдать обречён до конца своих дней,
Ты, счастливец, становишься всё веселей.
Берегись! На судьбу полагаться не вздумай:
Много тайных уловок в запасе у ней.
* * *
Как нужна для жемчужины полная тьма –
Так страданья нужны для души и ума.
Ты лишился всего, и душа опустела?
Эта чаша наполнится снова сама!
* * *
Если есть у тебя для жилья закуток –
В наше подлое время – и хлеба кусок,
Если ты никому не слуга, не хозяин –
Счастлив ты и воистину духом высок.
* * *
Тот, кто с юности верует в собственный ум,
Стал, в погоне за истиной, сух и угрюм.
Притязающий с детства на знание жизни,
Виноградом не став, превратился в изюм.
* * *
Знайся только с достойными дружбы людьми,
С подлецами не знайся, себя не срами.
Если подлый лекарство нальёт тебе – вылей!
Если мудрый подаст тебе яду – прими!
* * *
Ты, Всевышний, по-моему, жаден и стар.
Ты наносишь рабу за ударом удар.
Рай – награда безгрешным за их послушанье.
Дал бы что-нибудь мне не в награду, а в дар!
Окраина
Из дома нашего, где вырос я,
где чердаки и крыши пахнут детством,
переезжала молодость моя,
и грузовик стоял перед подъездом.
Снимались вещи с места не спеша,
Квартира оголялась постепенно.
Несли уют с шестого этажа,
и соглядатаи лепились к стенам.
Нет судей между мужем и женой:
он разлюбил, она ли разлюбила...
Бюро обмена площади жилой
одним ударом узел разрубило.
Мы обменялись памятью с людьми,
и видом из окошка, и парадным,
где наши имена на стенке рядом
и до сих пор равняются любви.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И вспомнил я о встречах, о прогулках
на тех далёких городских широтах,
где, изгнанный из центра, в переулках
плутал трамвай, визжа на поворотах.
Ту зиму вспомнил. Загородных звёзд
забытое в столице полыханье,
и вестибюль метро – как аванпост,
как центра отдалённого дыханье.
Ворчал вдали бессонный великан
за крышами всё небо задымивших,
не знающих про генеральный план,
запорошённых тишиной домишек.
Я вспомнил утро. Через город, вброд,
я возвращался. В перспективе хмурой
пингвинами торчали у ворот
укутанные дворничьи фигуры.
Рассветный ветер наливал глаза
холодной влагой, теребил за лацкан.
И лёгкие мои, как паруса,
от полноты грозили разорваться.
День выходил, трезвоня, из депо,
катился к центру, скорость набирая...
Я улыбался Светлости его
и до начала лекций спал в трамвае.
Осень1959
* * *
Оно приходит – понимание
подводной глубины событий,
и цепкое твоё внимание
не вязнет в непролазном быте.
Под голубым весёлым куполом
стоишь посередине мира,
не обижаешься на глупого,
не удивляешься Шекспиру!
Но вновь, убито канителями,
уставши с пошлостью бороться,
оно уходит. И неделями
живёшь как бы на дне колодца.
Оно уходит, как последние
трамваи ночью из-под носа,
как дети совершеннолетние
впервые из дому без спроса.
Смысл потеряв, душою старишься.
Свет позабыв, живёшь на ощупь...
В какие крайности ударишься?
Найдёшь ли приложенье мощи?
1956
Памяти Пастернака
Поэты, побочные дети России!
Вас с чёрного хода всегда выносили.
На кладбище старом с косыми крестами
крестились неграмотные крестьяне.
Теснились родные жалкою горсткой
в Тарханах, как в тридцать седьмом
в Святогорском.
А я – посторонний, заплаканный юнкер,
у края могилы застывший по струнке.
Я плачу, я слёз не стыжусь и не прячу,
хотя от стыда за страну свою плачу.
Какое нам дело, что скажут потомки?
Поэзию в землю зарыли подонки.
Мы славу свою уступаем задаром:
как видно, она не по нашим амбарам.
Как видно, у нас её край непочатый –
поэзии истинной, – хоть не печатай!
Лишь сосны с поэзией честно поступят:
корнями схватив, никому не уступят.
4 июня 1960
Памяти бабушки
Прощай, Варвара Фёдоровна!
Я продаю буфет –
громоздкий и ободранный
обломок давних лет.
В дубовом этом ящике
прах твоего мирка.
Ты на московском кладбище
давно мертвым-мертва.
А я всё помню – надо же! –
помню до сих пор
лицо лукаво-набожное,
твой городской фольклор...
Прощай, Варвара Фёдоровна!
Я продаю буфет –
словно иду на похороны
спустя пятнадцать лет.
Радости заглохшие
с горем пополам –
всё, всё идёт задёшево
на доски столярам!
Последнее свидетельство
того, что ты жила, –
как гроб несут по лестнице.
Ноша тяжела.
1962
Памяти друга
Д. А. Ланге
Прости меня, доктор,
что я задержался на юге,
у моря, лакая вино,
шашлыки уминая.
Что я не явился с цветами
к твоей овдовевшей подруге,
прости меня, Додик!
Я плачу, тебя поминая.
Должно быть, мы взяли рубеж –
перевал от восхода к закату.
Теперь мы, как волжская дельта –
отдельные мелкие реки.
Всё меньше друзей,
составлявших теченье когда-то:
одни уезжают навечно,
другие уходят навеки.
Ни слова, мой друг,
об инфарктах и нажитых грыжах.
Не станем трепаться
о том, что отечество – отчим.
Кому мы нужны
в этих самых Лондонах-Парижах?
Так ты говорил мне,
дантист и еврей, между прочим.
Куда мы уедем
от тысячи памятей личных,
от лет этих призрачных,
вставших друг другу в затылок,
от юности нищей,
сидящей в московских шашлычных,
от этих рядов
бесконечных порожних бутылок?
От этой помпезной державы,
играющей марши и туши,
от этой страны сверхсекретной,
где вход воспрещён посторонним,
от нескольких милых русачек,
согревших озябшие души,
от той, наконец, подмосковной
могилы, где ты похоронен?
Мы купим пол-литра
с утра в продуктовом у Дуськи,
а кто-нибудь купит
квартиру, машину и дачу...
В Пречистенской церкви
тебя отпевают по-русски...
Прости меня, Додик!
Я горькую пью. Я не плачу.
Октябрь 1976
Париж
Мне подарили старый план Парижа.
Я город этот знаю, как Москву.
Настанет время – я его увижу, –
мне эта мысль приставлена к виску.
Вы признавались в чувствах к городам?
Вы душу их почувствовать умели?
Косые тени бросил Notre-Dame
на узкие арбатские панели...
................................................
Настанет время – я его увижу.
Я чемодан в дорогу уложу
и: «Сколько суток скорым до Парижа?» –
на Белорусском в справочной спрошу.
1955
Пребудет тайной для меня...
Пребудет тайной для меня
твоё предсмертное мгновенье
до самого конца творенья,
до Судного, надеюсь, дня.
Остекленевшие глаза,
в которых вечность отразилась,
и та последняя слеза,
что по щеке твоей скатилась.
Какая мысль тебя прожгла
в миг одинокого прощанья?
Скорей всего, что жизнь прошла,
не выполнивши обещанья.
Чего от этой шлюхи ждать,
коль весь расчет её на тело?
Она и знать не захотела,
что можно бестелесным стать...
1991
Приснился мне город…
Приснился мне город, открытый весне,
и ты подошла к телефону во сне.
Звонил я, как прежде, из будки с угла,
но ты ничего разобрать не могла.
Твой голос, ослабленный дальностью лет,
«Нажмите на кнопку!» – давал мне совет.
А я всё кричал, задыхаясь: «Прости!»,
над сломанной трубкой сосулькою стыл.
И с крыш, и с ресниц на подушку текло,
и звонкой монетой стучали в стекло.
Меня торопили, и не было сил
припомнить: за что ж я прощенья просил?..
Конец 1950-х
Пробуждение
Я просыпаюсь посреди
полночных перегонов
с провалом карстовым в груди
и с дрожью перепонок.
Там города лежат в ночи
в ознобе телеграфном.
Простуженные москвичи
закутывают шею шарфом.
Там женщины в дождевиках
стоят с синицами в руках.
Там счастье, детство и Москва,
разорванные в клочья,
вся всероссийская тоска,
нахлынувшая ночью.
И женщины, и фонари,
и города, и ливни –
всё обрывается внутри,
как в падающем лифте.
Как будто, сотрясая мозг,
грохочет бесконечный мост...
1961
Прошедшие мимо
Прошедшие мимо,
вы были любимы!
Расплывчат ваш облик, как облако дыма.
Имён я не помню.
Но помню волненье.
Вы – как ненаписанные стихотворенья.
Вы мною придуманы в миг озаренья.
Вы радость мне дали
и дали отвагу.
И – не записаны на бумагу!
Другие – написаны и позабыты,
они уже стали предметами быта,
а вас вспоминаю с глубоким волненьем...
Я вас не испортил
плохим исполненьем.
1962
Пустырь
С чего начать? С любого пустяка.
С пустого. С пустыря в окне вагона,
когда курьерский в пригород с разгона
влетает впопыхах осенним днём,
и вдруг: средь городского костяка –
пустое место, и на нём – ворона.
Пустырь. С него, пожалуй, и начнём.
Итак, пустырь. На мёртвой полосе
бугров и сора между корпусами,
как шерсти клочья на облезлом псе,
клоки травы. Глаза полны слезами.
Приснилась мне долина Алазани
во всей своей немыслимой красе!
Итак – пустырь. Определим предмет.
Поскольку пустоты на свете нет,
и даже пустоту между планет –
и ту переполняет звёздный свет, –
мы пустырю дадим определенье:
ПРОСТРАНСТВО БЕЗ КРАСОТ И БЕЗ ПРИМЕТ.
.................................................................
Не путайте пустыню с пустырём.
Пустырь тосклив, как крик: «Старьё берём!»
Берёшь перо – и на пустом листе
«П» тупо упирается в «СТ».
Как ветра вой, как ржавый клок травы –
унылый «У» и безысходный «Ы».
В пустыне тоже пусто. Но взамен
забора «Р» – в конце пустыни «Н».
В пустыне – солнце, небо, караван,
на горизонте башни разных стран,
в уме у правоверного – Коран,
в суме у православного – Псалтырь…
Бог сотворил пустыню. Мы – пустырь.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Пустырь. Итака. Хитрый Одиссей,
состарившись в итоге жизни всей,
сидит на берегу, седой абориген.
И солнца средиземного рентген
просвечивает вековые дали.
У Одиссея на груди медали,
на десять метров в глубину земля
засорена обломками культуры:
горшки, колонны, лысые скульптуры,
остатки стен какого-то Кремля…
Он вспоминает блеск протекших дней,
а вкруг него пасутся, землю роя,
и дружелюбно хрюкают герои,
обманом превращённые в свиней.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Передо мной Пустырь грядущих лет –
ПРОСТРАНСТВО БЕЗ КРАСОТ И БЕЗ ПРИМЕТ.
Без пастыря бреду по пустырю,
забывшись, сам с собою говорю.
Такси мимо меня всё в парк да в парк…
А с дерева ворона: «Карк!» да «Карк!»
1976
Разбудил меня грохот на крыше...
Разбудил меня грохот на крыше:
лист железа от ветра гремел.
Между шкафом и полками, в нише
ужас прятался белый, как мел.
Будто кто-то родной помирает
в тёмной комнате рядом с тобой.
Будто хрупкую жизнь попирает
Великан многотонной стопой.
И мерещилось мне, что планета –
мёртвый мир, позабытый людьми,
что не будет теперь ни рассвета,
ни зелёной листвы, ни любви.
Что сомкнуть пересохшие очи
мне не даст ни сегодня, ни впредь
металлический грохот средь ночи,
равномерный и твёрдый, как смерть.
1969
Ружене
В отеле «Метрополе»,
под мухой, в час ночной –
чего мы намололи
на мельнице ручной?
Всё помнить обречённый –
припомнить не могу:
чему же муж учёный
учил нас в МГУ?
Всё помнить обречённый
на долгие года –
я помню кофе, чёрный,
как прошлая среда.
Как чёрный день позора
в отечестве квасном.
Хлебнув его, не скоро
уснёшь спокойным сном.
Где ты теперь, пражанка?
Услышу ль голос твой?
Всё глушит грохот танка
по пражской мостовой.
Почётно быть солдатом
в отечестве моём.
Стоим мы с автоматом,
всем прикурить даём.
Хотя и не просили
курильщики огня...
За то, что я России
служу – прости меня!
22 августа 1968
* * *
С первой встречи, когда в камышах
ещё длилась охота азартная,
два названья звенели в ушах:
незабвенная! невозвратная!
И когда я выигрывал бой,
и была ты покорная пленная –
я уже расставался с тобой,
невозвратная, незабвенная!
Были двое, а не вдвоём.
Совмещённые, а не совместные.
Так сближаются в беге своём
не земные тела, а небесные.
Так встречаются, чтоб разойтись.
И напрасно взывает Вселенная:
невозвратная – возвратись!
не забудь меня – незабвенная!
Август 1963
Садовое кольцо
(отрывок)
Откуда мы? Из детства, из Москвы
с рубиновыми звёздами, из книг
Жюль Верна и Аркадия Гайдара,
из: «Ну-ка песню нам пропой,
весёлый ветер!»
из перелётов через Полюс, из:
«Но пассаран!»,
«Рот фронт!»,
«Бандьера росса!»
Но также из Москвы военных лет,
Москвы противотанковой, зенитной,
поднявшей в небеса аэростаты,
тоскливым жестом заломившей руки
времянок дымных в жестяное небо,
из очереди на ночлег в метро,
из воющего, как сирена, слова
«э-ва-ку-ация!», из тыловой глуши,
заваленной снегами, из альбомов
с цветочками, с приписками в углу:
«А тот, кто любит больше нас,
тот пусть пишет дальше нас!».
И, наконец, мы из раздельных школ
потёмкинских времен, из перекуров
без шухера в уборных. Военрук
был однорук, был новогодний бал –
как пенистый бокал: летели «Брызги
шампанского» – тогдашнего танго,
был звёздный двор, где остужался пыл,
ларёк наискосок: «Сто грамм и кружку!»,
и снова зал, где па-де-патинер,
и серпантин, и девочки вдоль стен,
и Джордж, и Джордж, и Джордж
из Динки-джаза...
Минует всё, как танец менуэт,
как позапрошлый век – сыграет в ящик,
но атмосферу вымерших планет
по круговым орбитам память тащит.
Оттуда мы – из замкнутых эпох,
окольцевавших сердцевину детства,
и души наши – временный итог,
и с каждым кругом тяжелей наследство...
1966
Свернул я, перепутав города...
Свернул я, перепутав города,
однажды на Сенатскую с Арбата.
Я твёрдо помню, что спешил куда-то.
Но вот вопрос: откуда и куда?
Я смутно помню замыслы поэм
про доблести, про славу, про победу...
Хотелось землю мне, как Архимеду,
перевернуть! Но вот вопрос: зачем?
К жене спешил я или от жены
к возлюбленной, как в зале по паркету,
но всё равно я упирался в Лету
и понимал: мосты разведены...
1987
Сонет
Памяти Бориса Слуцкого
Когда русская муза ушла в перевод
(кто – на запад, а кто – на восток),
не заметил убытка российский народ,
но заметил недремлющий Бог.
Да и то: на колхозных полях недород –
это отнятый хлеба кусок.
А на ниве поэзии – наоборот:
Данте – он и по-русски высок.
Ну и что, коль чужбина иссушит мозги?
Ведь и дома не видно ни зги
(между нами, бродягами, говоря).
А вообще-то, как ни крути,
под тосканское вечное небо уйти
предпочтительней, чем в лагеря.
1987
* * *
Сохранять надо в душах,
понимать надо это:
задушевность подушек,
постоянство буфета
стульев норов бродяжий,
чужестранность прихожей...
Разрешается даже
строить зеркалу рожи.
Покупайте игрушки
и в игрушки играйте.
Не железные пушки,
а зверей покупайте.
Втихомолку рычите,
словно львы молодые.
Старость этим лечите,
старики молодые.
Январь 1962
Сумерки
Не могу прочесть слепых страниц
мною же написанного текста.
Я уже не различаю лиц,
светлых лиц из юности и детства.
Я уже не разбираю слов –
тишина мне заложила уши.
Гул потусторонних голосов
до меня доносится всё глуше.
Позабуду, как меня зовут.
Стану тенью, призраком без тела,–
лишь бы ещё несколько минут
в небе это облако блестело!
1968
Твой город опустел...
Евгению Рейну
Твой город опустел. И Пётр, и Павл
из-за реки грозят кому-то шпилем.
Державный призрак потонул, пропал,
приливный шквал сменился полным штилем.
Все отлетели. Отошли. Тоска.
Так в смертный час уходит дух из тела.
Но и моя кипучая Москва
вся выкипела. Тоже опустела.
Виденья обступают и меня.
Они всё ярче, чтобы не забыли.
Гораздо ярче нынешнего дня
и ярче, чем когда-то в жизни были.
Май 1987
Труба
Евгению Евтушенко
В Госцирке львы рычали. На Цветном
цветы склонялись к утреннему рынку.
Никто из нас не думал про Неглинку,
подземную, укрытую в бетон.
Все думали о чём-нибудь ином.
Цветная жизнь поверхностна, как шар,
как праздничный, готовый лопнуть шарик.
А там, в трубе, река вслепую шарит
и каплет мгла из вертикальных шахт...
Когда на город рушатся дожди –
вода на Трубной вышибает люки.
Когда в Кремле кончаются вожди –
в парадных двери вышибают люди.
От Самотёки, Сретенских ворот
неудержимо катится народ
лавиною вдоль чёрного бульвара.
Труба, Труба – ночной водоворот,
накрытый сверху белой шапкой пара!
Двенадцать лет до нынешнего дня
ты уходила в землю от меня.
Твои газоны зарастали бытом.
Ты стать хотела прошлым позабытым,
весёлыми трамваями звеня.
Двенадцать лет до этого числа
ты в подземельях памяти росла,
лишённая движения и звуков.
И вырвалась, и хлынула из люков,
и понесла меня, и понесла!
Нет мысли в наводненье. Только страх.
И мужество: остаться на постах,
не шкуру, а достоинство спасая.
Утопленница – истина босая –
до ужаса убога и утла...
У чёрных репродукторов с утра,
с каймою траурной у глаз бессонных
отцы стоят навытяжку в кальсонах.
Свой мягкий бархат стелет Левитан –
безликий глас незыблемых устоев,
который точно так же клеветал,
вещал приказы, объявлял героев.
Сегодня он – как лента в кумаче:
у бога много сахара в моче!
С утра был март в сосульках и слезах.
Остатки снега с мостовых слизав,
стекались в лужи слёзы пролитые.
По мостовым, не замечая луж,
стекались на места учёб и служб
со всех сторон лунатики слепые.
Торжественно всплывали к небесам
над городом огромные портреты.
Всемирный гимн, с тридцатых лет не петый,
восторгом скорби души сотрясал.
В той пешеходной, кочевой Москве
я растворяюсь, становлюсь как все,
объём теряю, становлюсь картонным.
Безликая, подобная волне,
стихия поднимается во мне,
сметая милицейские кордоны.
И я вливаюсь каплею в поток
на тротуары выплеснутой черни,
прибоем бьющий в небосвод вечерний
над городом, в котором бог подох,
над городом, где вымер автопарк,
где у пустых троллейбусов инфаркт,
где полный паралич трамвайных линий,
и где-то в центре, в самой сердцевине –
дымится эта чёрная дыра...
О, чувство локтя около ребра!
Вокруг тебя поборники добра
всех профсоюзов, возрастов и званий.
Там, впереди, между гранитных зданий,
как волнорезы поперёк реки –
поставленные в ряд грузовики.
Бездушен и железен этот строй.
Он знает только: «осади!» и «стой!».
Он норовит ревущую лавину
направить в русло, втиснуть в горловину.
Не дрогнув, может он перемолоть
всю плещущую, плачущую плоть...
Там, впереди, куда несёт река,
аляповатой вкладкой «Огонька»,
как риза, раззолочено и ало,
встаёт виденье траурного зала.
Там саркофаг, поставленный торчком,
с приподнятым над миром старичком:
чтоб не лежал, как рядовые трупы.
Его ещё приподнимают трубы
превыше толп рыдающих и стен.
Работают Бетховен и Шопен.
Вперёд, вперёд, свободные рабы,
достойные Ходынки и Трубы!
Там, впереди, проходы перекрыты.
Давитесь, разевайте рты, как рыбы.
Вперёд, вперёд, истории творцы!
Вам мостовых достанутся торцы,
хруст рёбер и чугунная ограда,
и топот обезумевшего стада,
и грязь, и кровь в углах бескровных губ.
Вы обойдётесь без высоких труб.
Спрессованные, сжатые с боков,
вы обойдётесь небом без богов,
безбожным небом в клочьях облаков.
Вы обойдётесь этим чёрным небом,
как прежде обходились чёрным хлебом.
До самой глубины глазного дна
постигнете, что истина черна.
Земля среди кромешной черноты
одна как перст, а все её цветы,
её весёлый купол голубой –
цветной мираж, рассеянный Трубой.
Весь кислород Земли сгорел дотла
в бурлящей топке этого котла...
Опомнимся! Попробуем спасти
ту девочку босую лет шести.
Дерзнём в толпе безлюдной быть людьми –
отдельными людьми, детьми любви.
Отчаемся – и побредём домой
сушить над газом брюки с бахромой,
пол-литра пить и до утра решать:
чем в безвоздушном городе дышать?
Труба, Труба! В день Страшного Суда
ты будешь мёртвых созывать сюда:
тех девочек, прозрачных, как слюда,
задавленных безумьем белоглазым,
и тех владельцев почернелых морд,
доставленных из подворотен в морг
и снова воскрешённых трубным гласом...
Дымись во мгле, подземная река,
бурли во мраке, исходя парами.
Мы забываем о тебе, пока
цветная жизнь сияет в панораме
и кислород переполняет грудь.
Ты существуешь, загнанная вглубь,
в моей крови, насыщенной железом.
Вперёд, вперёд! Обратный путь отрезан,
закрыт, как люк, который не поднять...
И это всё, что нам дано понять.
Январь – сентябрь 1965, Ленинград – Химки
Ты не ревнуй меня к словам...
Ты не ревнуй меня к словам,
к магическим «тогда» и «там»,
которых не застала.
Ложится в строфы хорошо
лишь то, что навсегда прошло,
прошло – и словом стало.
Какой внутриутробный срок
у тех или у этих строк –
родители не знают.
Слова, которые болят,
поставить точку не велят
и в строчку не влезают.
Прости меня, что я молчу.
Я просто слышать ночь хочу
сквозь толщину бетона.
Я не отсутствую, я весь
впервые без остатка здесь,
впервые в жизни – дома.
Прости меня. Я просто так.
Я просто слушаю собак
бездомных, полуночных.
Я просто слушаю прибой,
шумящий вокруг нас с тобой
в кварталах крупноблочных.
1967
Ты отомстила мне в гробу...
Ты отомстила мне в гробу
за все обиды и измены.
Темна лицом, как кровь из вены,
лежала, закусив губу.
Я сильно сдал за этот год,
что провалялся по больницам.
Так брошенный тощает кот
и тени собственной боится.
Я превратился в старика:
усохли мышцы, грудь запала,
и не даётся мне строка,
забыв, как весело давала.
Колдунья! Ведьма! Хохочи!
Ты всю мою мужскую силу
с собою унесла в могилу,
навечно спрятала в ночи.
1992
Уснули мы, обняв друг друга…
Уснули мы, обняв друг друга.
Устав любить, уснули мы
внутри магического круга,
в дремучих зарослях зимы.
Я спал – и ты меня касалась,
но остывал угольев жар.
Одна зола в душе осталась,
остался лишь вороний кар.
Как будто чёрные старухи
«Прощай! Прощай! Прощай!» – кричат
среди войны, среди разрухи,
где остовы печей торчат…
Начало 1970-х
Уходит жизнь...
Памяти Виктора Хинкиса
Уходит жизнь... Как женщина. Навек.
Оставь свои язвительные речи,
забудь свои обиды, человек,
чтобы расстаться с ней по-человечьи.
Уходит жизнь... Она была твоей –
влюблённая, готовая отдаться.
Но ты жестоко обошёлся с ней,
и поздно пасть к ногам и разрыдаться.
Уходит жизнь... Стираются черты
любимые из памяти непрочной.
В пустой квартире остаёшься ты
один, во мрак уставясь полуночный.
Уходит жизнь... И в наших голосах
всё меньше радости живородящей,
и музы со слезами на глазах
глядят вдогонку жизни уходящей.
16 мая 1981
* * *
Фигурка вдалеке,
шагающая шатко;
лицо в воротнике,
надвинутая шапка.
И в восемнадцать лет,
И в двадцать восемь шёл ты,
шёл на зелёный свет,
на красный и на жёлтый…
Я каблуки собью,
подошвы доконаю –
я молодость свою
по кругу догоняю.
Я замечаю вдруг,
к большой моей досаде,
что обогнал на круг
и оказался сзади.
Деревья-города,
растущие веками!
Тут и мои года
намотаны витками.
Шагать бы без конца
по замкнутой орбите
Садового кольца –
и никуда не выйти.
Конец 1950-х
Филармония
Одинокие женщины ходят в концерты,
как в соборы ходили – молиться.
Эти белые лица в партере – как в церкви,
как в минуту любви – обнажённые лица.
И ещё туда ходят рыцари долга,
в гардеробе снимают доспехи,
и ничтожными кажутся ненадолго
деловые, дневные успехи.
Среди буйных голов, на ладони упавших,
среди душ, превратившихся в уши,
узнаю Прометеев, от службы уставших,
и Джульетт, обращённых в старушек.
Это музыка – опытный реставратор –
прожитое снимает пластами,
открывает героев, какими когда-то
стать могли и какими не стали.
Здесь не надо затверженного мажора,
здесь – высокой трагедии мера.
Поддержите, крылатые дирижёры,
эту взлётную тягу партера!
1962
Чистая лирика
Мы привыкаем к спутницам своим.
Мы шли к ним ночью, в холода, с окраин.
Дела бросали и спешили к ним.
Мы больше не спешим. Мы привыкаем.
Не только свет в окошке, что в твоём.
Не только в мире счастья, что вдвоём.
Двадцатый век переменил в Москве
названья улиц, флаги и спектакли,
но боль сердец, покинутых в тоске,
но слёзы нелюбимых не иссякли.
Печаль моя! Забытая моя!
Как нелогичен мир, как неустроен!
Как самолёт на радиомаяк,
я снова на твою волну настроен.
1956
Чужая комната
Бродяга я. Нету
привычки к уюту.
Я в комнату эту
вхожу, как в каюту.
Дверь проверяю,
замок проверяю
и чемодан
под кровать швыряю.
Мне жизнь
тишину и крышу послала,
дала мне жену
и постель постлала.
Тёмные стены
молчат, ожидают.
Но постепенно
они оживают.
На них проступают
напластованья:
чьи-то свиданья
и расставанья.
Жизнь – прожитая,
чужая, немая –
кричит!
И я её понимаю.
Мало быть другом,
мало быть мужем.
Собственный угол
душе моей нужен.
Январь 1959
* * *
Этот каменный город
ритмичен и строг,
как размеры классических строк.
Но замешан во всё,
словно в логику бред,
фиолетовый цвет.
В этом городе можно
молча кричать,
плохо кончить –
и хорошо начать.
В этом городе можно –
в воду, с ума...
Сумасшедшие все
вдоль проспектов дома!
Нету почвы земной
под его мостовой.
Этот город беспочвенный
связан с тобой.
1963
Южный ветер
Набег ветров.
Со свистом, как татары,
они ворвались в город от застав,
врасплох листву
заснувшую застав.
И – заметались в панике бульвары.
Железо крыш ударило в набат.
Но поздно:
победитель гонит пленных,
горячий, жадный,
кинулся на баб,
зажавших юбки в стиснутых коленях.
Как в сундуках,
он рылся в грудах сора,
к дверям в парадных подбирал ключи.
И, торопясь на площадь,
к месту сбора,
награбленное следом волочил.
1956
* * *
Я в ту пору орал на московских вокзалах,
Горло драл в непроветренных, заспанных залах:
«За четыре рубля – все красоты Кремля,
чем скучать, на скамейках дремля!»
Воскресений не знал измочаленный ряд
хриплых, с голосом сорванным, дней.
В пять утра из будильника рвался заряд
твёрдой воли вечерней моей.
О, Москва колыбельная!
Теплота ещё в сердце постельная,
зыбкий, зябкий рассвет по дворам, по углам...
Ты в глазах – с недосмотренным сном пополам.
Из пучины столицы всплывал и вонзал
в небеса Суюмбекову башню вокзал.
Я входил – и, посудой у стоек звеня,
кочевая страна обступала меня.
Непобрита, в дорожной одежде страна,
заведённая будто на тысячу лет,
на ораторов молча смотрела она,
за четыре рубля покупала билет.
«Прокачу с ветерком!» – зазывало такси,
шла посадка на дальние поезда.
Ты попробуй у этих, небритых, спроси:
«Как живёте, скажите, спешите куда?»
На допросе пытливых, внимательных глаз
что я мог, кроме громких заученных фраз?
Но Господь упаси отступить от строки –
как у нас на Руси методисты строги!
Им одним понимать разрешила страна:
что должна она знать – и чего не должна.
До сих пор эти залы я вижу во сне,
шум вокзального табора слышится мне.
Я ору, перекрикивая рупора,
а страна всё на стрелки косится: пора!»
И спешит, понимая значенье минут,
к поездам…
Поезда опоздавших не ждут.
Конец 1950-х
Я всю жизнь как будто на отшибе...
Я всю жизнь как будто на отшибе,
будто сносит ветром парашют...
И не то чтобы меня отшили –
к делу всё никак не подошьют.
Кажется, вот-вот, почти что рядом –
что-то проясняется, сквозит...
Не скольжу по жизни верхоглядом –
это жизнь мимо меня скользит.
Невесомость это или вескость?
Это полнота иль пустота?
Видно, с самого начала резкость
у фотографа была не та.
Видел ты меня или не видел?
Может быть, и видел, да забыл...
Слишком мало доказательств выдал
я того, что между вами был.
24 октября 1987
Я жесток? Ты на звёзды взгляни…
Я жесток? Ты на звёзды взгляни:
Что на свете быть может жесточе?
Что-то в сердце растёт в эти дни,
в эти звёздные зимние ночи.
Что-то близкое к сути самой,
к тайне жизни безвыходной этой,
этой звёздной московской зимой,
в дни любви и хвостатой кометы.
Этой жизни не женская суть,
жёстких звёзд первозданная млечность,
этот Млечный сияющий путь –
семя Бога, пролитое в Вечность.
Начало 1970-х
* * *
Я жил в Ленинграде, на Малой Морской,
в подвале, на уровне ног.
Галоши и клёши я видел с тоской,
а выше я видеть не мог.
Потом там пивную открыли. В подвал
спустившись, я с кружкой сидел
на том самом месте, где прежде лежал,
и в то же окошко глядел.
Сенатская площадь, Собор, Фальконет,
Дворец, Александровский столп –
всё будто бы рядом и будто бы нет…
Лишь топот мятущихся толп!
1987
Я иностранец, иностранец…
Я иностранец, иностранец
в родном краю, в своей стране.
Мне странен этот дикий танец,
разгул убогий страшен мне.
Здесь не работа – перекуры,
маячат праздные фигуры,
один ишачит – пять глядят.
Здесь бабы алкашей жалеют,
и от прохвостов тяжелеют,
и мелкую шпану плодят.
Давай, любимая, займёмся
обменом площади жилой.
Давай скорее назовёмся
законно мужем и женой.
Мы заведём с тобой привычки,
в квартире наведём уют.
Потом однажды в электричке
меня сограждане убьют.
За то, что я не благодарен
великой родине моей,
за то, что не рубаха-парень,
за то, что в шляпе и еврей.
И ты останешься вдовою
на том высоком этаже,
где я состариться с тобою
мечтал. И старился уже.
Январь 1969
* * *
Я рад бы познакомиться. Я рад,
что это был апрель и Ленинград,
где из-за чёрных кованых оград
тянулся к счастью полуголый сад.
В твоих эмалированных глазах
я не услышал окрика: «Назад!»
В блестящих воронёных волосах
застряли капли – до сих пор дрожат.
И надо было ювелиром быть.
И надо было что-то не разбить.
И было ощущение цены.
И не было предчувствия жены.
Лишь резкое предчувствие тоски –
до дрожи электрической в руках,
в ночную память врезанное, как
скрип тормозов такси...
24 июля 1963
Я снова бездомен…
Я снова бездомен.
Свободно снежинки порхают.
Мир Божий огромен,
Вдали города полыхают.
И всё, как в далёком начале:
вокзал, мандаринные корки, окурки
Нелепо торчат, как торчали,
озябшие руки из куртки.
На мягких рессорах,
шатаясь, иду по вагону.
Пора бы: за сорок –
а всё ещё нет угомону.
Всё рая ищу я с поляной,
обвившего дерево змея...
Я всё ещё пьяный.
Жду часа, когда протрезвею.
На юность похоже.
Но всё тяжелей и опасней.
Всё так же, всё то же –
лишь нету бессмертья в запасе.
За окнами темень.
А что там за теменью – тайна.
Отмерено время.
Начало последнего тайма.
1972
* * *
Я спился. Я схожу с ума.
Консьержери – моя тюрьма.
Стакан гранёный и бутылка –
мой Тауэр, моя Бутырка.
В семиметровом закуте
меня качает, как в купе,
кровать всплывает к потолку,
колёса толокно толкут.
Решётка на моём окне –
чтоб со двора никто ко мне.
Прильнули сумерки к окну –
чтоб я наружу ни к кому.
Всё схлынуло. И этот дом,
и этот мир отпал, отлип.
Моя кровать – как волнолом.
Жизнь убывает, как отлив.
1959
Я тебя бы на руки взял…
Я тебя бы на руки взял,
я тебя бы взял и унёс,
тихо смеясь на твои «нельзя»,
вдыхая запах твоих волос.
И, не насытившись трепетом тел,
стуком в груди нарушая тишь,
всё просыпался бы и глядел,
плача от радости, как ты спишь.
Я бы к тебе, как к ручью, приник,
как в реку, в тебя бы гляделся я.
Я бы за двести лет не привык
к бездонной мысли, что ты моя.
..............................
Если бы не было разных «бы»,
о которые мы расшибаем лбы.
1956