№ 14 (182) от 11 мая 2011 года
Жар без отчества – дар пророческий
Обнажённые – до степени прозы – строчки стихов заострённо-точно ранят самое сердце, пронзая его и не давая душе покоя. Жёсткие формулы порой давят на совесть читателя, выделяя из неё кровавый сок раскаянья:
Мелкие пожизненные хлопоты
по добыче славы и деньжат
к жизненному опыту
не принадлежат.
………………………………………
Маска Бетховена и бюст Вольтера –
Две непохожих на вас головы.
И переполнена вся квартира,
Так что в ней делаете вы?
Призыв: обязаны жить по-другому – дан без словесного камуфляжа. Сухая соль стихов нигде не тронута водой надуманных переживаний и разнообразных сантиментов. И то, что вы можете заплакать над «Лошадьми в океане» – говорит скорее о слабости вашего душевного устройства, нежели об облегчённой слезливости стихов. Стигмат сострадания выжжен в сердце – да; но вне слёз – достаточно работы над собой.
Сухой – религиозный без религиозности, пророческий – огонь палил сердце Слуцкого.
Из книги судеб.
Борис Абрамович Слуцкий
(7 мая 1919, Славянск – 22 февраля 1986, Тула) – русский советский поэт.
 Учился в Московском юридическом институте (1937–1941) и одновременно в Литературном институте имени Горького (окончил в 1941-м). В 1941 году опубликовал первые стихи. Участник Великой Отечественной войны. С июня 1941-го – рядовой 60-й стрелковой бригады. С осени 1942-го – инструктор, с апреля 1943-го старший инструктор политотдела 57-й дивизии. На фронте был тяжело ранен. Уволен из армии в 1946-м в звании майора.
Учился в Московском юридическом институте (1937–1941) и одновременно в Литературном институте имени Горького (окончил в 1941-м). В 1941 году опубликовал первые стихи. Участник Великой Отечественной войны. С июня 1941-го – рядовой 60-й стрелковой бригады. С осени 1942-го – инструктор, с апреля 1943-го старший инструктор политотдела 57-й дивизии. На фронте был тяжело ранен. Уволен из армии в 1946-м в звании майора.
Член Союза писателей СССР с 1957-го.
Первая книга стихов – «Память» (1957). Автор поэтических сборников «Время» (1959), «Сегодня и вчера» (1961), «Работа» (1964), «Современные истории» (1969), «Годовая стрелка» (1971), «Доброта дня» (1973), переводов из мировой поэзии.
Одно из первых публичных выступлений Бориса Слуцкого перед большой аудиторией состоялось в Центральном лектории Харькова в 1960 году. Организатором этого выступления был друг поэта, харьковский литературовед Л.Я. Лившиц.
Вместе с несколькими другими «знаковыми» поэтами шестидесятых годов снят в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича» («Мне двадцать лет») – эпизод «Вечер в Политехническом музее». Значительная часть наследия Слуцкого – как его неподцензурных стихов, так и мемуарной прозы – была опубликована в СССР лишь после 1987.
В формальном отношении Слуцкий стремится к синтаксически очень простой, приближающейся к прозе, структуре стиха и к естественному языку, обогащённому историческими элементами и бытовизмами. Он постоянно прибегает к приёму, возникающему от столкновения одинаково звучащих слов с разным значением – вплоть до рифмовки слов с одинаковыми корнями. Слуцкий пользуется повторами и ассонансами для членения стихов, частью состоящих из предложений, охватывающих целую строфу, частью – из лаконично сжатых строк, как правило, ориентированных на прозу.
Борис Слуцкий имеет неоднозначную репутацию в литературных кругах. Многие современники и коллеги не смогли простить ему выступления против Бориса Пастернака на собрании Союза писателей СССР 31 октября 1958 года, на котором Пастернак был исключён из рядов союза. Слуцкий осудил публикацию романа «Доктор Живаго» на Западе.
 Друзья поэта считают, что он тяжело переживал свой поступок и до конца своих дней так и не простил себя. В своей статье «Четыре судьбы» Револьд Банчуков утверждает, что «позднее Слуцкий скажет В. Кардину, не оправдывая себя: “Сработал механизм партийной дисциплины”».
Друзья поэта считают, что он тяжело переживал свой поступок и до конца своих дней так и не простил себя. В своей статье «Четыре судьбы» Револьд Банчуков утверждает, что «позднее Слуцкий скажет В. Кардину, не оправдывая себя: “Сработал механизм партийной дисциплины”».
Собственной семьёй Слуцкий обзавёлся уже в зрелые годы. Его жена, Татьяна Дашковская, тяжело заболела и в 1977-м году умерла. Для Слуцкого это стало настоящим ударом судьбы…
Борис Слуцкий скончался 23 февраля 1986 года. Он похоронен на Пятницком кладбище в Москве.
Первоисточник: Википедия
* * *
– Не определите ли вы, хотя бы приблизительно, вашу главную цель как поэта?
– Выговориться.
Ответ Бориса Слуцкого
на вопрос журналиста газеты «Молодёжь Грузии», 08.06.1967
Поэзия и наука – это разные миры…
 Разговорный, живой язык – это литературный язык. Вечер в салоне Анны Павловны Шерер, записанный на магнитофон, не был бы похож на рассказ Толстого. Диалоги чеховских пьес – не стенограмма. Однако литературный язык идёт вслед за живым языком, постоянно пополняясь, обогащаясь за счёт первого.
Разговорный, живой язык – это литературный язык. Вечер в салоне Анны Павловны Шерер, записанный на магнитофон, не был бы похож на рассказ Толстого. Диалоги чеховских пьес – не стенограмма. Однако литературный язык идёт вслед за живым языком, постоянно пополняясь, обогащаясь за счёт первого.
Вся история русской поэзии – есть история ввода в поэтический язык житейской прозы, разговорного языка.
Это очень хорошо понимает Борис Слуцкий, настойчиво и сознательно вводящий в стихи элементы разговорной речи.
Однако вовсе не всякую разговорную речь нужно вводить в стихи. Разговорный язык перенасыщен всевозможными бесполезными словами, вроде – «значит», «конечно», «очень даже», «понимаешь», «вот», «стало быть». Если бы о каждом из нас можно было сказать: «говорит, как пишет», – насколько красочней, полновесней, ярче звучала бы наша речь, испорченная всякими «понимаешь».
«Говорит, как пишет» – это сказал Грибоедов. Писание – процесс физиологически гораздо более сложный, чем речь, живое слово. «Говорит, как пишет» – значит, говорит с отбором слов, экономно и веско. Это – противоположно словесной неряшливости, болтовне.
Борис Слуцкий не присматривается к тем словам разговорного уличного языка, которые он вводит в стихи.
Что-то физики в почёте,
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчёте.
…………………………
Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно
Так что – даже не обидно,
А скорее интересно.
…………………………
Это – ввод в стихотворную речь словесной шелухи – не больше. Думается, что это – неправильная дорога, ошибочный путь.
Не всякая разговорная речь годится для закрепления её в литературном слове.
Стихотворению «Физики и лирики» неожиданно придано в нашей литературной прессе значение некоей поэтической декларации принципиального характера. В этом случае можно было бы подумать, что Слуцкий не понимает природы своего ремесла. Величайшие открытия Ньютона не вызвали паники на поэтическом Олимпе того времени и не должны были вызвать. Поэзия и наука – это разные миры и разные дороги у поэтов и ученых. Человеческие сердца остались прежними – их так же трудно завоевать, как и во времена Шекспира. Надо написать хорошие стихи, настоящие стихи, лучше Кольцовских стихов о сивке.
Ну, тащится, сивка,
Пашней, десятиной.
Выбелим железо
О сырую землю…
Не просто написать строки лучше этих, хотя их «техническая отсталость» – в любом смысле вне всякого сомнения. Думается, что создатели космических ракет воспитывались вот такими технически отсталыми стихами – стихами Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Баратынского, Кольцова.
Наука не угрожает поэзии и никогда не угрожала… Поэзия и наука не бегают наперегонки. Трагедии Шекспира не превзойдены и через четыреста лет.
«Физики и лирики», конечно, не декларация. Стихотворение сказано в шутку, не всерьёз.
Варлам Шаламов
Из записных книжек, 1960-е годы
«Раскопайте мои тетради, расшифруйте дневники…»
 …Нашим соседом по квартире несколько лет был Борис Слуцкий. Не он напросился к нам, мы к нему напросились: он был холостяк. И когда в Союзе писателей распределяли квартиры, к нему выстроилась очередь, мы в ней были пятыми по счету. Но тем, четвёрым, дали отдельные квартиры, и вот мы – соседи, я об этом писал однажды.
…Нашим соседом по квартире несколько лет был Борис Слуцкий. Не он напросился к нам, мы к нему напросились: он был холостяк. И когда в Союзе писателей распределяли квартиры, к нему выстроилась очередь, мы в ней были пятыми по счету. Но тем, четвёрым, дали отдельные квартиры, и вот мы – соседи, я об этом писал однажды.
В быту он был совершенно беспомощен. Рассказывать об этом все равно что рассказывать серию анекдотов. Обычно часа два-три с утра он переводил стихи, с каких языков – не суть важно, переводил по подстрочнику: это был заработок, на это он жил, как многие поэты в то время.
Так вот, с утра, как обычно, переводит Слуцкий стихи. Сижу и я в своей комнате, работаю. Вдруг – взрыв на кухне, звон металла. Что такое? Оказалось, Боря решил почистить ботинки, куда-то он собрался, но вакса, долго не востребованная, засохла. Чтоб растопить её, он зажег газ, поставил банку на огонь, а сам тем временем продолжал переводить стихи, и мысль его далеко витала. Жестяная банка грелась, накалялась, да и взорвалась, на потолке остался чёрный след. Хорошо, хоть дверь была закрыта, сквозь стекло в двери мы увидели, как по всей кухне крупными хлопьями оседает жирный чёрный снег.
Переводы его печатали, а его поэзию печатать не стремились. Ну кто из тогдашних редакторов, при тогдашней цензуре посмел бы напечатать вот это:
А мой хозяин не любил меня.
Не знал меня, не слышал и не видел,
но всё-таки боялся как огня
и сумрачно, угрюмо ненавидел.
Когда пред ним я голову склонял –
ему казалось, я улыбку прячу.
Когда меня он плакать заставлял –
ему казалось, я притворно плачу.
А я всю жизнь работал на него,
ложился поздно, поднимался рано,
любил его и за него был ранен.
Но мне не помогало ничего.
А я всю жизнь возил его портрет,
в землянке вешал и в палатке вешал,
смотрел, смотрел, не уставал смотреть.
И с каждым годом мне всё реже, реже
обидною казалась нелюбовь.
И ныне настроенья мне не губит
тот явный факт, что испокон веков
таких, как я,
хозяева не любят.
Гадать не нужно, о каком хозяине речь. И хотя времена были уже хрущёвские, но не забудем, как Хрущёв сказал во гневе: во всем я – ленинец, а в отношении к искусству – сталинец. Это теперь мы убедились, что и Ленин, и Сталин «в отношении к искусству» близнецы-братья с той лишь разницей, что один, как утверждали, любил слушать «Аппассионату», другой – «Сулико». Но тогда ещё были иллюзии. Стихи Слуцкого ходили по Москве, но напечатать... Голову могли оторвать за это, партбилет отнять, а уж кресло из-под зада редактора наверняка бы выдернули. Или вот такие стихи:
Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но всё никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»
 Он был ранен, контужен, демобилизован в чине майора. Война кончилась, но контузия долго не отпускала его: страшные головные боли, две трепанации черепа он перенёс после войны. «Эти года, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчленённой массой, – писал он. – Точнее, двумя комками. 1946–1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948–1953, когда я постепенно оживал. Сначала я был инвалидом Отечественной войны. Потом был непечатающимся поэтом. Очень разные положения. Рубеж: осень 1948 года, когда путем полного напряжения я за месяц сочинил четыре стихотворных строки, рифмованных».
Он был ранен, контужен, демобилизован в чине майора. Война кончилась, но контузия долго не отпускала его: страшные головные боли, две трепанации черепа он перенёс после войны. «Эти года, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчленённой массой, – писал он. – Точнее, двумя комками. 1946–1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948–1953, когда я постепенно оживал. Сначала я был инвалидом Отечественной войны. Потом был непечатающимся поэтом. Очень разные положения. Рубеж: осень 1948 года, когда путем полного напряжения я за месяц сочинил четыре стихотворных строки, рифмованных».
Да, хозяин не любил его. И хозяева поменьше и ещё поменьше... Но если б только хозяева от мала до велика на всех ступенях этой длинной лестницы, а то ведь братья-поэты, они в первую очередь не прощали ему таланта. Бездарные люди таланта не прощают. Помните, у Блока: «Здесь жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой». Стихи Слуцкого ходили по Москве, но в Союз писателей приняли его не сразу, в два захода. Не случайно говорилось, что в литературу он вошёл раньше, чем в Союз писателей. Впрочем, так и должно бы быть. Если б так было!
А тут ещё такое обстоятельство: Илья Эренбург написал статью: «О стихах Бориса Слуцкого». Да не вглухую, как хвалят бездарей, хвалят, а процитировать нечего. Он приводил строки его стихов, в том числе – ненапечатанных. Можно представить себе, сколько сразу прибавилось доброжелателей. И это после «дела врачей», после длительной борьбы с так называемыми космополитами, а в том и в другом деле – почти сплошь еврейские фамилии. В городе Горьком, не помню уж кого, но совсем не «космополита» зачислили по злому умыслу в космополиты, он оправдывался стихами: «Бываю раз в неделю сытым, / Хожу не стрижен и не брит, / Зовут меня космополитом, / Какой же я космополит?» После длительной промывки мозгов, после того как настроение общества соответственно было подогрето, сидеть бы им всем тихо, так нет же, Эренбург выдвигает и не кого-нибудь, а – заметьте – Слуцкого! Ну?
По пальцам можно перечесть, кто из писателей в годы войны сделал столько, сколько сделал Эренбург, не случайно Гитлер много назначил за его голову. Но война кончилась, пошли в писательской среде свои сборы-разборы, если б могли, расклевали бы Эренбурга живьём. Но видит око, да зуб неймёт: было известно, к нему хозяин благоволит. А ведь, как писал Слуцкий, «Мы все ходили под богом. / У бога под самым боком. / Он жил не в небесной дали, / Его иногда видали. / Живого. На мавзолее. / Он был умнее и злее / Того – иного, другого...»
Не могу вспомнить, чтобы Боря когда-либо улыбался, шутил. Может быть, где-то в компании, но всё-таки мы жили рядом не один год, а смеха его я не слышал. Впрочем, один раз он пошутил, помню. Было это под Новый год, мы принесли ёлку, холодную с мороза, поставили на кухне оттаивать, и наш тогда ещё двухгодовалый сын, увидев, начал вдруг ходить вокруг неё, приседая, и запел: «В лесу родилась ёлочка...» Он рано начал говорить, а слух у него абсолютный. Тут как раз вышел из своей комнаты Боря Слуцкий , увидел, наставил на него строго указательный палец: «Ты – заяц, а я – нет!» И Мишутка, испугавшись: «Сам ты заяц...»
Не то чтоб лицо у него было хмурое или расстроенное, но, как правило, напряжено, а профиль чеканный: высокий, немного покатый лоб, надбровье, нос, усы, подбородок, намечавшийся под ним второй подбородок – медаль можно было чеканить, я говорю это серьёзно.
<…>
 От «...Любил его. И за него был ранен... Возил с собой его портрет. / В землянке вешал и в палатке вешал..» до «И ныне настроенья мне не губит / Тот явный факт, что испокон веков / Таких, как я, хозяева не любят» Слуцкий прошёл огромный путь. Все мы этот путь прошли. И хоть портрета его я не возил с собой, но кто из нас, молодых, в то время не отдал бы за него своей жизни. В закупоренной банке да под тоталитарным прессом не только любящих, но и слепых молодых фанатиков воспитать легко. Не пережив, не испытав на себе, этого не понять.
От «...Любил его. И за него был ранен... Возил с собой его портрет. / В землянке вешал и в палатке вешал..» до «И ныне настроенья мне не губит / Тот явный факт, что испокон веков / Таких, как я, хозяева не любят» Слуцкий прошёл огромный путь. Все мы этот путь прошли. И хоть портрета его я не возил с собой, но кто из нас, молодых, в то время не отдал бы за него своей жизни. В закупоренной банке да под тоталитарным прессом не только любящих, но и слепых молодых фанатиков воспитать легко. Не пережив, не испытав на себе, этого не понять.
Сейчас пишут и говорят, что такова уж особенность России, российской истории: самых жестоких тиранов всегда боготворили, например – Ивана Грозного, Сталина. Ну, а в Германии сколько лет потребовалось, чтобы Гитлер стал превыше Б-га? Восемь? Или всего четыре? А Мао? Про мусульманские страны уж не говорю. Пожалуй, тут не об особенностях России речь, а о природе человечества.
В ту пору, когда мы с Борисом Слуцким жили по-соседски, крушения идеалов в нём ещё не произошло, оно происходило. И политрук ещё жив был в нём. Он ведь в конце войны работал в политотделе 57-й армии. В автобиографии он писал о себе, считал нужным это написать: «Был во многих сражениях и во многих странах. Писал листовки для войск противника, доклады о политическом положении в Болгарии, Венгрии, Австрии, Румынии для командования. Написал даже две книги для служебного пользования о Югославии и о юго-западной Венгрии. Писал текст первой политической шифровки “Политическое положение в Белграде”... В конце войны участвовал в формировании властей и демократических партий в Венгрии и Австрии. Формировал первое демократическое правительство в Штирии (Южная Австрия)».
Жажда деятельности была в нём ощутима. Если бы руководство Союза писателей и те отделы ЦК, которые руководили сверху, если бы они чуть лучше соображали, Слуцкому надо было дать в Союзе писателей руководящую должность. И он бы, думаю, руководил непреклонно. Но, в отличие от всех от них, кто рвался к власти, к должностям и сидел на них, как на троне, он бы делал это не за ордена, не ради получения благ и выгод, а бескорыстно. Он был умён, временами даже мудр, но он всё ещё был человеком идеи и, сам того не замечая, играл бы роль в чуждом ему спектакле. Это потом, потом, когда свергнут Хрущёва, он одним из первых поймёт, какие настают времена. И напишет:
Устал тот ветер, что листал
Страницы мировой истории.
Какой-то перерыв настал,
Словно антракт в консерватории.
Мелодий – нет. Гармоний – нет.
Все устремляются в буфет.
Теперь эти годы называют застоем, но немало наших сограждан и ныне считают их лучшими годами своей жизни. Не казнили, как при Сталине, чиновный люд обрёл устойчивость, пайки, вторая зарплата в конвертах, за которую даже партвзносы платить не надо. А что кого-то судят, ссылают, кого-то упрятали в психушку, так ведь не нас. У нас, как потешал тогда публику Райкин, есть всё, но не для всех. И сами над собой охотно смеялись. Зато пенсия была 132 рубля.
Впрочем, уже и сейчас многие хотят немногого: чуть бы пенсия и зарплата побольше, чтоб жить было можно, и – хватит, устали от потрясений, целый век трясло, да как трясло! А назовут ли это в дальнейшем застоем или ещё что-то похлеще придумают – без разницы, как теперь принято говорить.
 Вот читаю стихи Слуцкого, он, конечно, любил людей и писал о людях проникновенно. Но живые, не обобщённые люди, они в живой жизни создают массу неудобств…
Вот читаю стихи Слуцкого, он, конечно, любил людей и писал о людях проникновенно. Но живые, не обобщённые люди, они в живой жизни создают массу неудобств…
Мы ждали дочку, Боря заметил, а не заметить было уже невозможно, и, наставив на меня указательный палец, как ствол пистолета, спросил:
– Этот ребенок случайный или запланированный?..
В общей нашей квартире и телефон был общий. Снимешь трубку, Боря разговаривает, вроде бы, ты его торопишь. Мы говорим, он снимает трубку и раз, и два, чувствуешь себя, как в телефоне-автомате, когда тебе стучат монеткой в стекло. Теперь, когда столько мобильников звенит в Москве повсюду, боюсь, многим не понять, в чём, собственно, проблема. Поставили бы себе второй телефон. Но это был конец пятидесятых, и, если ты не руководящее должностное лицо, если у тебя нет обширных связей или ты не хочешь ходить и клянчить, ходить и клянчить, взятку подсунуть, жди. Да ведь и сейчас, сорок с лишним лет спустя, в России очередь на установку телефона – 6 миллионов человек. Короче говоря, мы поставили в передней самодельный переключатель: кому надо говорить, переключает на себя. Но дети имеют то свойство, что иногда они болеют, да и тёща моя была уже немолода, страдала гипертонией. Не помню, для кого, но потребовалось вызвать неотложку, как всегда в таких случаях, – срочно. А телефон занят, тут уж само просится на язык: «вечно занят телефон». Я постучал в дверь:
– Боря, мне надо вызвать неотложку!
Он встрепенулся, метнул в меня взгляд, поднятая рука его задрожала в воздухе: не прерывать, разговор идёт о высшем. Уж не с Г-сподом ли Б-гом по прямому проводу? И вызывал я неотложку из телефона-автомата на улице, благо, автомат был недалеко. Если бы в тот момент от него требовалось подвиг совершить, он бы совершил, не колеблясь, но от мелочей жизни он был далёк. Он был закоренелый холостяк, а тут – семья.
Помню, привезли мы Шурочку из роддома, пришли родственники смотреть её, а она спит в коляске. Вся, как булочка белая, щёчки розовые, реснички уже тёмные. И всего-то спит. А – радость. Ну как это объяснишь? И что объяснять? Тут всё наоборот: чем трудней дались дети, чем больше с ними пережито, тем они дороже.
 Однако закоренелым холостяком он был до тех пор, пока не появилась Таня, высокая, интересная, с характером. И Боре, и нам стало ясно: надо разъезжаться. Но как? В те времена купить квартиру было невозможно, да и денег таких не было ни у нас, ни у него. Построить в кооперативе? Но это надо ждать годы. Оставалось одно: меняться. У тещи моей была комната, у нас две комнаты, у Бори с Таней по комнате. Вскоре мы нашли квартиру, прочли объявление, приклеенное на водосточной трубе. И всё бы хорошо: и нам подходило, и тем понравилось, но...
Однако закоренелым холостяком он был до тех пор, пока не появилась Таня, высокая, интересная, с характером. И Боре, и нам стало ясно: надо разъезжаться. Но как? В те времена купить квартиру было невозможно, да и денег таких не было ни у нас, ни у него. Построить в кооперативе? Но это надо ждать годы. Оставалось одно: меняться. У тещи моей была комната, у нас две комнаты, у Бори с Таней по комнате. Вскоре мы нашли квартиру, прочли объявление, приклеенное на водосточной трубе. И всё бы хорошо: и нам подходило, и тем понравилось, но...
– А где тут у вас сушить валенки?
Живые люди, строители, работа у них такая, не высушишь валенки, как на целый день на мороз идти? Но мы представили себе в этой ситуации Борю... Ведь это не он к нам, мы напросились к нему в соседи. Сказали ему всё как есть. Он думал несколько дней и наконец сформулировал нам условия. Главных условий было пять. Чтобы комната, куда он переедет, была не меньше той, в которой он живёт, – это раз. Чтоб была она в этом районе и даже где-нибудь поблизости, – два. Чтобы, как в нашем доме, была там финская кухня, – три. Чтобы квартира, куда он въедет, была двухкомнатная, – четыре. Чтобы во второй комнате жили мать и дочь, но дочь такого возраста, когда опасность, что она выйдет замуж, уже исключена. Это, пятое, условие было практически невыполнимо.
Вы не поверите, но немыслимый этот обмен состоялся. Случайно и тоже на водосточной трубе прочли мы объявление. Всё сходилось. На Университетском проспекте, то есть – рядом, в доме с такой же финской кухней, в двухкомнатной квартире жили мать и перезрелая дочь. Незамужняя! Мать говорила про неё: она пробует. А в другой комнате немолодая наркоманка жила с молодым парнем. Огромная доплата, и она согласилась переехать в комнату моей тёщи, кстати сказать, та комната была и больше, и лучше, но – в другом районе.
Когда этот первичный обмен состоялся, Боря пришел, осмотрел всё, сказал сделать раздвигающуюся решётку на балконную дверь и – ещё ряд усовершенствований. И был перевезён. Соседки, мать и незамужняя дочь, нарадоваться не могли: холостяк, это ж счастье какое! За ним и ухаживали, и убирали у него, и готовили. Только радость их была не столь долгой: Боря и Таня съехались в квартиру на улице Левитана.
Много лет спустя, когда наша дочка Шура уже не в коляске лежала, а закончила первый курс института, мы на студенческие каникулы поехали в Малеевку вчетвером: дети и мы с Эллой. Там в это время жили Слуцкие. Таня была плоха, от столовой до своей комнаты доходила в два приёма, по дороге сядет на диванчик, вяжет, набирается сил. Лицо пергаментное, глаза темней стали на этом бескровном лице. Но такие же, как прежде, прекрасные пышные волосы, страшно подумать – мёртвые волосы. Её лечили, посылали лечиться в Париж, но и тамошние врачи ничего сделать не смогли: рак лимфатических желез.
А зима стояла снежная, солнечная, мороз небольшой, градусов 10, ели в снегу, иней по утрам на лыжне. Возвращаемся с лыжной прогулки надышавшиеся, стоит у крыльца машина «скорой помощи». Я счищал снег с лыж, вдруг вижу – бежит Боря Слуцкий в расстёгнутой шубе, без шапки, ветерок был, и редкие волосы на его голове, казалось, стоят дыбом. Никогда не забуду, как он метался, совсем потерявшийся, да только никто уже и ничем не мог помочь.
В последовавшие три месяца после смерти Тани он написал книгу стихов, он продолжал говорить с ней, сказал в них то, что, может быть, не сказал ей при жизни. Злые языки утверждали: конечно, это она женила его на себе. А он писал:
Каждое утро вставал и радовался,
как ты добра, как хороша,
как в небольшом достижимом радиусе
дышит твоя душа.
Ночью по нескольку раз
прислушивался:
спишь ли, читаешь ли, сносишь ли
боль?
Не было в длинной жизни лучшего,
чем эти жалость, страх, любовь.
Чем только мог, с судьбой
рассчитывался,
лишь бы не гас язычок огня,
лишь бы еще оставался и числился,
лился, как прежде, твой свет на меня.
Куда девался рубленый, временами просто командный стих Слуцкого? Таня открыла ему то, чего он и сам в себе не знал. А поначалу всё было так житейски просто: за полночь он захлопывал за ней дверь и даже не шёл провожать к метро.
<…>
 Успел ли сказать всё, что хотел и мог? Или только то, что успел? Дальше – пустота. Эта контузия оказалась тяжелей той, фронтовой. Лежал в больницах, дома в пустой квартире. Депрессия. Не написал больше ни строчки. Ему звонили друзья, хотели прийти. Он отвечал: «Не к кому приходить».
Успел ли сказать всё, что хотел и мог? Или только то, что успел? Дальше – пустота. Эта контузия оказалась тяжелей той, фронтовой. Лежал в больницах, дома в пустой квартире. Депрессия. Не написал больше ни строчки. Ему звонили друзья, хотели прийти. Он отвечал: «Не к кому приходить».
Избавление от мук настало в феврале 1986 года. Последняя его просьба: «Умоляю вас, / Христа ради, / с выбросом просящей руки, / раскопайте мои тетради, / расшифруйте дневники». Раскопал, расшифровал, собрал Юрий Болдырев. Иногда подвижнически собирал по строчке...
Трёхтомник Бориса Слуцкого вышел посмертно, при жизни он этого не удостоился.
Григорий Бакланов
Фрагменты из воспоминаний «Мой сосед Борис Слуцкий»
Предисловие к заветной, но посмертной книге
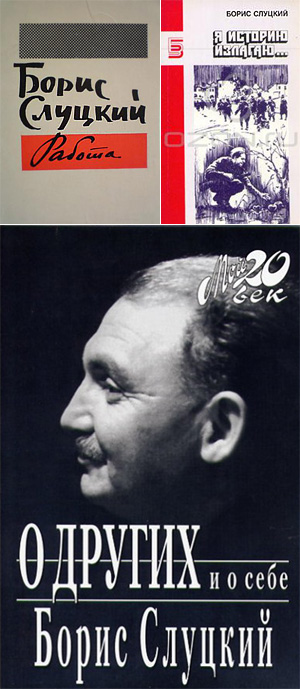 В конце 50-х годов Борис Слуцкий написал и опубликовал в журнале «Знамя» стихотворение «Я учитель школы для взрослых...» В нём была следующая строфа: Даже если стихи слагаю, / Всё равно – всегда между строк / – Я историю излагаю, / Только самый последний кусок…
В конце 50-х годов Борис Слуцкий написал и опубликовал в журнале «Знамя» стихотворение «Я учитель школы для взрослых...» В нём была следующая строфа: Даже если стихи слагаю, / Всё равно – всегда между строк / – Я историю излагаю, / Только самый последний кусок…
И действительно, на протяжении всего своего творческого пути он излагал историю, но делал это не как историк, а как поэт. В его лирическом дневнике соседствовали и стихи, точно воспроизводившие события, настроения, ощущения сегодняшнего дня, и стихи-записи о дне вчерашнем или позавчерашнем, и стихи-воспоминания о днях войны, о тридцатых и даже двадцатых годах, о послевоенном времени и времени XX съезда, и стихи-раздумья о давних или только что произошедших событиях и переменах... А поскольку Слуцкий и события сорокалетней давности, и свежие происшествия воспринимал и воссоздавал в стихе с одинаковым чувством историзма, его лирический дневник сам собой, не преднамеренно превращался в летопись, или, как он любил говорить, «аннал».
Когда после смерти Б. Слуцкого я впервые прочёл все его рабочие тетради, в которых оказалось огромное количество неопубликованных произведений, и сверил впечатление от них с впечатлением от того, что было им опубликовано при жизни, я увидел, что поэт сделал нечто, в русской поэзии до того небывалое: лирическим и балладным стихом он написал хронику жизни советского человека, советского общества за полвека – с 20-х до 70-х годов. Причём хроника эта густо насыщена не только событиями историческими, масштабными, но и бытом нашей жизни, той материальной и духовной атмосферой, в которой жили наши деды, отцы и мы сами. Так вот, книга, лежащая сейчас перед читателем, есть первая, пусть неполная попытка восстановления этого эпоса, созданного Борисом Слуцким. Вот почему она имеет право стоять рядом с прозаическими книгами, вот почему она носит столь непривычное для стихотворной книги название «Я историю излагаю...» По мере последовательности изложения (разделы или главы этой книги посвящены соответственно двадцатым-тридцатым годам, военной поре, первым послевоенным годам, хрущёвскому периоду и времени от середины шестидесятых годов до конца семидесятых), этот эпос связан также ярко проявленной личностью её автора, четко выписанной его биографией.
В книге предстаёт жизнь и судьба свидетеля и участника эпохи, воина и поэта, человека зоркого и совестливого, доброго и честного, чьи взгляды на время и людей не пребывали в неподвижности, а развивались и двигались с накоплением жизненного и творческого опыта. Борис Слуцкий писал о двадцатом столетии: «В этом веке все мои вехи, все, что выстроил я и сломал».
Сын этого века, он рассказал о нём, о его вехах, о его людях, о самом себе с предельной, порой беспощадной искренностью и откровенностью. Как уже сказано, первое место в этой книге занимает история. Это не значит, что поэзия здесь не присутствует. Она есть. В полной мере.
Юрий Болдырев
Предисловие к книге «Я историю излагаю…» (Издательство «Правда», 1990)
Два стихотворения памяти Бориса Слуцкого
 Мой земляк, сильный самобытный поэт Игорь Калугин был неплохо знаком с Борисом Слуцким. К сожалению, Игорь ушёл из жизни рано, не оставив нам воспоминаний о встречах и доверительном общении с Борисом Абрамовичем. А пересказывать речи одного покойного поэта о другом покойном поэте – дело и неблагородное, и неблагодарное!
Мой земляк, сильный самобытный поэт Игорь Калугин был неплохо знаком с Борисом Слуцким. К сожалению, Игорь ушёл из жизни рано, не оставив нам воспоминаний о встречах и доверительном общении с Борисом Абрамовичем. А пересказывать речи одного покойного поэта о другом покойном поэте – дело и неблагородное, и неблагодарное!
Вот я и решил привести здесь, под занавес сложносочинённой композиции о Слуцком, который только кажется простым, привести два стихотворения, посвящённые его памяти. Автор первого – мой друг Игорь Калугин, автор второго – я, Александр Балтин.
* * *
Когда уходят крупные поэты,
Нам кажется, что громко хлопнет дверь,
Сорвутся с петель крупные планеты
И вздрогнут памятники,
стряхивая цвель.
Когда уходят крупные поэты,
Они и нас уводят за черту,
Нам раздают в бессмертие билеты,
В свою немыслимую высоту.
Когда уходят крупные поэты,
Накатывает
крупная слеза…
И увеличиваются предметы,
И душу обретают, и глаза.
* * *
Жёсткие стихи, суровое лицо,
Щёточка усов.
Кто как не поэт в конце концов
Знает мощь и немощь вечных слов?
Уксус Лютера – протест – живёт
В голове.
Осень снова золото кладёт –
Вон лежат червонцы на траве.
Соль в крови; а в чём же жизни соль?
Неужель
Это просто боль,
И условна всякая земная цель?..
Много пережил и много знал,
Нежен был и вместе с тем суров.
Как, должно быть, истово страдал,
Перевоплощаясь в лики слов!
Январь-март 2011 года
Москва
Иллюстрации:
фотографии Бориса Слуцкого разных лет;
поэт и его жена, Татьяна;
обложки некоторых книг Бориса Слуцкого
Творчество
Подборки стихотворений
- …когда над бездною уже заносишь ногу № 14 (182) 11 мая 2011 года
- По закону строфы и строки № 27 (231) 21 сентября 2012 года
- Покуда обильны твои хлеба, зачем я тебе? № 35 (311) 11 декабря 2014 года
Комментарии
-
Игорь Хентов Борису Слуцкому 23 февраля 2020 года
ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ
(Памяти Бориса Абрамовича Слуцкого посвящается)
Шёл через век двадцатый,
Подлой войной распятый,
Трусов утюжа с хамами
На перекрёстках бед,
Русский поэт нерусский,
Если точнее, Слуцкий –
Слуцкий Борис Абрамович.
Шёл вопреки судьбе.
Видимо, не случайно
Он воевал отчаянно,
Строки летели птицами
Вольными в неба синь.
Шёл, хороня товарищей,
Шёл сквозь бои, пожарища,
Сёлами шёл, столицами,
Мира спасая жизнь.
Рядом носились слухи –
Подлые оплеухи,
И, попадая, ранил
Каждый, как пуля, в грудь,
Только гвардеец Слуцкий –
Русский поэт нерусский
В малости не лукавил –
В вечность его вёл путь. -
Наум Басовский Борису Слуцкому 9 декабря 2017 года
............Памяти Б. А. Слуцкого
Мне рассказывали, что Борис Абрамыч
носил складной брезентовый стульчик —
он жил в Москве в доме без лифта
чуть ли не под самою крышей.
Поднимется на один этаж, разложит стульчик,
посидит, пока не наскучит,
снова сложит стульчик
и не спеша поднимается выше.
И никому не жаловался, ни у кого не просил
никаких поблажек и привилегий,
а чтобы изношенное сердце
слегка привести в порядок,
бормотал на ходу "Незнакомку"
или "Песнь о вещем Олеге"
или, если в плохом настроении,
что-то из потайных тетрадок.
А лежали эти тетрадки в ящике
из-под тушенки где-то
в темном чулане,
а сверху стояла кухонная посуда.
И стихи жили в ящике, словно евреи в гетто:
рождались, учились, создавали семьи,
работали и умирали не выходя отсюда.
И вот Борис Абрамыч идет,
сколько хватает дыханья, бормочет,
вспоминает жизнь,
удивляясь просто тому, что выжил,
разложит строчку на отдельные слова,
словно на прочность проверить хочет,
сложит строчку чуть-чуть по-другому
и опять поднимается выше.
1991 -
Александр Винокур Борису Слуцкому 13 марта 2017 года
***
Курс советской истории,
Автор - Борис Слуцкий.
Эти слова нестройные
Будто поток людский.
И, не нюхавший пороха,
Я - как школяр очный.
В шкуре страны поротой
Чувство судьбы прочно.
Жизни моей экзамены
Ни для чего в вузе.
Я почитаю заново.
Помню. Не рву узы.
2015
http://alex-vinokur.livejournal.com/397970.html -
Александр Винокур Борису Слуцкому 13 марта 2017 года
***
Фото. Похороны Слуцкого,
Горстка сбившихся людей.
На пороге мира лучшего
Очень русский иудей.
Выговаривался истово
От начала всех начал
Писарь слова клинописного.
Всё сказал. И замолчал.
На пиры эпохи званого,
Мы читали сотни раз
Каждый раз как будто заново
Стихотворный этот сказ.
Есть Отечество и отчество,
Пухом будет пусть земля.
Но такое одиночество
Недалёко от Кремля.
2016
http://alex-vinokur.livejournal.com/482111.html -
Борис Суслович Борису Слуцкому 20 января 2017 года
Слуцкий (триптих)
«Мы поимённо вспомним всех…»
А. Галич
1
Имя с трибуны названо
Было. Пусть вскользь, но было.
Память – тля неотвязная –
Слабости не простила.
Зная исход заранее,
Время лечило плохо:
Пожизненным покаянием...
Отчаянием… Голгофой.
2
Платя немереную цену
За миг позора, знал ли он,
Что мир, казавшийся бессменным,
Им же самим приговорён?
Что вырвавшийся из неволи
Мучительно-бесстрашный стих
Грехи создателя замолит,
Рождаясь и кончаясь в них?
3
Прошедший сквозь безверье,
Сквозь горе, срам и грязь,
Постигнул в полной мере
Порушенную связь
С библейским небосводом –
И, падая во тьму,
Добытую свободу
Не отдал никому.
2012 -
Ирина к подборке «По закону строфы и строки» Бориса Слуцкого 13 января 2014 года
Ищу начало стихотворения о коте, которое заканчивается словами:"... и окружив себя хвостом, как государственной границей".
Автор тоже неизвестен; кажется, кто-то из советского периода.
Прошу определить автора и полный текст стиха. Заранее благодарю.-
Лера Мурашова 18 января 2014 годаЭто стихотворение Константина Ваншенкина, опубликовано здесь, например: http://mc-cats.ru/stihi2/vanshenkin.htm
-
-
Данила Борису Слуцкому 24 апреля 2013 года
да это равда -
Ирина Борису Слуцкому 22 февраля 2013 года
http://galina-ratnik.livejournal.com/277636.html -
Антонина Оксман Борису Слуцкому 19 февраля 2013 года
23 февраля очередная годовщина смерти Бориса Слуцкого.Последние годы своей жизни он провёл в Туле.Я взяла интервью у его племянницы,Ольги Слуцкой. Оно было напечатано газете еврейской общины нашего города.Может быть,кому-то оно тоже будет небезинтересно? http://mail.yandex.ru/neo2/#message/2370000000988463426 -
Тамара Жирмунская Борису Слуцкому 22 мая 2011 года
Благодарю живого Александра Балтина и ушедшего из жизни, но, уверена, что не в никуда, Григория Бакланова за эссе в стихах и прозе о необыкновенном человеке и неповторимом поэте Борисе Абрамовиче Слуцком. Помню и люблю его. Т.Ж.

Добавить комментарий