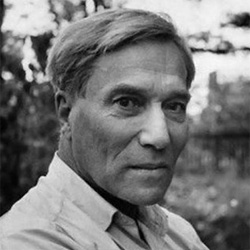* * *
Потели стёкла двери на балкон.
Их заслонял заметно зимний фикус.
Сиял графин. С недопитым глотком
Вставали вы, весёлая навыказ, –
Смеркалась даль, – спокойная на вид, –
И дуло в щели, – праведница ликом, –
И день сгорал, давно остановив
Часы и кровь, в мучительно великом
Просторе долго, без конца горев
На остриях скворешниц и дерев,
В осколках тонких ледяных пластинок,
По пустырям и на ковре в гостиной.
1916
* * *
Весна была просто тобой,
И лето – с грехом пополам.
Но осень, но этот позор голубой
Обоев, и войлок, и хлам!
Разбитую клячу ведут на махан,
И ноздри с коротким дыханьем
Заслушались мокрой ромашки и мха,
А то и конины в духане.
В прозрачность заплаканных дней целиком
Губами и глаз полыханьем
Впиваешься, как в помутнелый флакон
С невыдохшимися духами.
Не спорить, а спать. Не оспаривать,
А спать. Не распахивать наспех
Окна, где в беспамятных заревах
Июль, разгораясь, как яспис,
Расплавливал стёкла и спаривал
Тех самых пунцовых стрекоз,
Которые нынче на брачных
Брусах – мертвей и прозрачней
Осыпавшихся папирос.
Как в сумерки сонно и зябко
Окошко! Сухой купорос.
На донышке склянки – козявка
И гильзы задохшихся ос.
Как с севера дует! Как щупло
Нахохлилась стужа! О вихрь,
Общупай все глуби и дупла,
Найди мою песню в живых!
1917
* * *
С полу, звездами облитого,
К месяцу, вдоль по ограде
Тянется волос ракитовый,
Дыбятся клочья и пряди.
Жутко ведь, вея, окутывать
Дымами Кассиопею!
Наутро куколкой тутовой
Церковь свернуться успеет.
Что это? Лавры ли Киева
Спят купола или Эдду
Север взлелеял и выявил
Перлом предвечного бреда?
Так это было. Тогда-то я
Дикий, скользящий, растущий
Встал среди сада рогатого
Призраком тени пастушьей.
Был он как лось. До колен ему
Снег доходил, и сквозь ветви
Виделась взору оленьему
На полночь легшая четверть.
Замер загадкой, как вкопанный,
Глядя на поле лепное:
В звёздную стужу как сноп оно
Белой плескало копною.
До снегу гнулся. Подхватывал
С полу, всей мукой извилин,
Звёзды и ночь. У сохатого
Хаос веков был не спилен.
1918
Да будет
Рассвет расколыхнёт свечу,
Зажжёт и пустит в цель стрижа.
Напоминанием влечу:
Да будет так же жизнь свежа!
Заря, как выстрел в темноту.
Бабах! – и тухнет на лету
Пожар ружейного пыжа.
Да будет так же жизнь свежа.
Ещё снаружи – ветерок,
Что ночью жался к нам, дрожа.
Зарёй шёл дождь, и он продрог.
Да будет так же жизнь свежа.
Он поразительно смешон!
Зачем совался в сторожа?
Он видел – вход не разрешён.
Да будет так же жизнь свежа.
Повелевай, пока на взмах
Платка – пока ты госпожа,
Пока – покамест мы впотьмах,
Покамест не угас пожар.
1919
* * *
Нас мало. Нас, может быть, трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.
Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване,
Как тундру под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, ворвёмся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим,
И – мимо! – Вы поздно поймёте.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы – с момент на намёте, –
След ветра живёт в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.
1921
* * *
Косых картин, летящих ливмя
С шоссе, задувшего свечу,
С крюков и стен срываться к рифме
И падать в такт не отучу.
Что в том, что на вселенной – маска?
Что в том, что нет таких широт,
Которым на зиму замазкой
Зажать не вызвались бы рот?
Но вещи рвут с себя личину,
Теряют власть, роняют честь,
Когда у них есть петь причина,
Когда для ливня повод есть.
1922
* * *
Ты здесь, мы в воздухе одном.
Твоё присутствие, как город,
Как тихий Киев за окном,
Который в зной лучей обёрнут,
Который спит, не опочив,
И сном борим, но не поборот,
Срывает с шеи кирпичи,
Как потный чесучовый ворот,
B котором, пропотев листвой
От взятых только что препятствий,
На побеждённой мостовой
Устало тополя толпятся.
Ты вся, как мысль, что этот Днепр
В зелёной коже рвов и стёжек,
Как жалобная книга недр
Для наших записей расхожих.
Твоё присутствие, как зов
За полдень поскорей усесться
И, перечтя его с азов,
Вписать в него твоё соседство.
1931
* * *
Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающейся раме
Кура ползёт атакой газовою
К Арагве, сдавленной горами,
И в августовский свод из мрамора,
Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казнённых замков очертанья,
Пока я голову заламываю,
Следя, как шеи укреплений
Плывут по синеве сиреневой
И тонут в бездне поколений,
Пока, сменяя рощи вязовые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
Кавказ, Кавказ, о что мне делать!
Объятье в тысячу охватов,
Чем обеспечен твой успех?
Здоровый глаз за веко спрятав,
Над чем смеёшься ты, Казбек?
Когда от высей сердце ёкает
И гор колышутся кадила,
Ты думаешь, моя далёкая,
Что чем-то мне не угодила.
И там, у Альп в дали Германии,
Где так же чокаются скалы,
Но отклики ещё туманнее,
Ты думаешь, ты оплошала?
Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода,
И мне кроить свою трудней,
Чем резать ножницами воду.
Не бойся снов, не мучься, брось.
Люблю и думаю и знаю.
Смотри: и рек не мыслит врозь
Существованья ткань сквозная.
1931
* * *
Стихи мои, бегом, бегом.
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за угол есть дом,
Где дней порвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд,
И плачут, думают и ждут.
Где пьют, как воду, горький бром
Полубессонниц, полудрём.
Есть дом, где хлеб как лебеда,
Есть дом, – так вот бегом туда.
Пусть вьюга с улиц улюлю, –
Вы – радугой по хрусталю,
Вы – сном, вы – вестью: я вас шлю,
Я шлю вас, значит, я люблю.
О ссадины вкруг женских шей
От вешавшихся фетишей!
Как я их знаю, как постиг,
Я, вешающийся на них.
Всю жизнь я сдерживаю крик
О видимости их вериг,
Но их одолевает ложь
Чужих похолодевших лож,
И образ синей бороды
Сильнее, чем мои труды.
Наследье страшное мещан,
Их посещает по ночам
Несуществующий, как вий,
Обидный призрак нелюбви,
И привиденьем искажён
Природный жребий лучших жён.
О, как она была смела,
Когда едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала,
Без прекословий и помех
Свой детский мир и детский смех,
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела.
1931
* * *
Столетье с лишним – не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.
Хотеть в отличье от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.
И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственною ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленье.
Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Итак, вперёд, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.
1931
* * *
Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.
Но всем известен этот облик.
Он миг для пряток прозевал.
Назад не повернуть оглобли,
Хотя б и затаясь в подвал.
Судьбы под землю не заямить.
Как быть? Неясная сперва,
При жизни переходит в память
Его признавшая молва.
Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.
Как поселенье на Гольфштреме,
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время
Всё, что ушло за волнолом.
Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.
__
А в те же дни на расстояньи
За древней каменной стеной
Живёт не человек, – деянье:
Поступок ростом с шар земной.
Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел.
Он – то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.
За этим баснословным делом
Уклад вещей остался цел.
Он не взвился небесным телом,
Не исказился, не истлел.
В собраньи сказок и реликвий,
Кремлём плывущих над Москвой,
Столетья так к нему привыкли,
Как к бою башни часовой.
Но он остался человеком
И если, зайцу вперерез
Пальнёт зимой по лесосекам,
Ему, как всем, ответит лес.
__
И этим гением поступка
Так поглощён другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.
Как в этой двухголосной фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.
1935 – 1936
* * *
Скромный дом, но рюмка рому
И набросков чёрный грог,
И взамен камор хоромы,
И на чердаке – чертог.
От шагов и волн капота
И расспросов – ни следа.
В зарешёченном работой
Своде воздуха – слюда.
Голос, властный, как полюдье,
Плавит всё наперечёт.
В горловой его полуде
Ложек олово течёт.
Что ему почёт и слава,
Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова?
Он на это мебель стопит,
Дружбу, разум, совесть, быт.
На столе стакан не допит,
Век не дожит, свет забыт.
Слитки рифм, как воск гадальный,
Каждый миг меняют вид.
Он детей дыханье в спальной
Паром их благословит.
1936
* * *
Он встаёт. Bека, гелаты.
Где-то факелы горят.
Кто провёл за ним в палату
Островерхих шапок ряд?
И ещё века. Другие.
Те, что после будут. Те,
В уши чьи, пока тугие,
Шепчет он в своей мечте.
– Жизнь моя средь вас – не очерк.
Этого хоть захлебнись.
Время пощадит мой почерк
От критических скребниц.
Разве въезд в эпоху заперт?
Пусть он крепость, пусть и храм,
Въеду на коне на паперть,
Лошадь осажу к дверям.
Не гусляр и не балакирь,
Лошадь взвил я на дыбы,
Чтоб тебя, военный лагерь,
Увидать с высот судьбы.
И, едва поводья тронув,
Порываюсь наугад
В широту твоих прогонов,
Что ещё во тьме лежат.
Как гроза, в пути объемля
Жизнь и случай, смерть и страсть,
Ты пройдёшь умы и земли,
Чтоб преданьем в вечность впасть.
Твой поход изменит местность.
Под чугун твоих подков,
Размывая бессловесность,
Хлынут волны языков.
Крыши городов дорогой,
Каждой хижины крыльцо,
Каждый тополь у порога
Будут знать тебя в лицо.
1936
Памяти Марины Цветаевой
Хмуро тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.
За оградою вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.
Мне в ненастье мерещится книга
О земле и её красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.
Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.
Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плёса,
Где зимуют баркасы во льду.
__
Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой мильонершей
Средь голодающих сестёр.
Что делать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрёк невысказанный есть.
Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.
Тут всё – полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дан.
Зима – как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином – вот и кутья.
Пред домом яблоня в сугробе,
И город в снежной пелене –
Твоё огромное надгробье,
Как целый год казалось мне.
Лицом повёрнутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Ещё на ней не подвели.
1943
Стихи из романа
На Страстной
Ещё кругом ночная мгла.
Ещё так рано в мире,
Что звёздам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.
Ещё кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрёстка до угла,
И до рассвета и тепла
Ещё тысячелетье.
Ещё земля голым-гола,
И ей ночами не в чем
Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.
И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьёт водовороты.
И лес раздет и непокрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.
А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решётки.
И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
Колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.
И видят свет у царских врат,
И чёрный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица –
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две берёзы у ворот
Должны посторониться.
И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.
И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И всё до нитки роздал.
И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.
Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья.
1946
Дурные дни
Когда на последней неделе
Входил он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.
А дни всё грозней и суровей.
Любовью не тронуть сердец.
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.
Свинцовою тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед ним, как лиса.
И тёмными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.
Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданье развязки
И тыкались взад и вперёд.
И полз шепоток по соседству
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.
Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.
И брачное пиршество в Кане,
И чуду дивящийся стол.
И море, которым в тумане
Он к лодке, как по суху, шёл.
И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешённый вставал…
1949
© Борис Пастернак, 1916 – 1949.
© 45-я параллель, 2017.