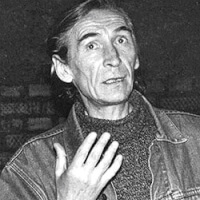* * *
Сначала воспари – а после рухни!
Сперва залейся, а потом опухни,
от жажды умирая у ручья…
Уменья трохи да чуть-чуть чутья –
вот основное из того, что я
на поэтической усвоил кухне,
хотя стихов, как правило, на дух не
переносил, лишь исключенья чтя.
* * *
Не стихает суматоха
суетного естества...
Слава богу, дело плохо,
на исходе время вдоха,
время выдоха – эпоха
зрелости и мастерства.
Время трезвого подхода
к возведению светил
на круги земного свода,
через Лету время брода
от заката до восхода
солнца и потери сил.
Время – на распутье стоя,
кутаясь в полупальто,
всё, что следует, усвоя
от распада до устоя, –
думать что-нибудь простое,
но уже не важно, что.
Лишь бы только от избытка
сердца до потери сил
длилась каждая попытка,
только бы не слишком прытко,
как по рытвинам кибитка,
до успения трусил.
Кинематограф
Стансы
1
К одиночеству не привыкать!
Неприглядна его подоплёка –
без раскаянья или упрёка
меру времени пересекать,
звуки мыкать и губы смыкать –
слово за слово, око за око,
дабы не было так одиноко.
2
Ветер выроет в кроне нору,
не по росту ли, не по нутру –
бросит эту и роет другую...
Ворошит и ерошит листву
и невидимую наяву
он натягивает тетиву,
неподатливую и тугую...
3
В этом кинотеатре пустом
был я, помнится, классе в шестом,
он приветит меня и по старой
памяти приютит до поры,
когда ночь проходные дворы
затворяет и мрака опары
проступают сквозь поры коры
то ли кембрия, то ли юры.
4
Если это действительно шанс
быть в беспамятстве целый сеанс,
в трансе целую кинокартину –
им воспользоваться не премину.
Скоротаю часа полтора...
Ничего не попишешь, пора
мне расхлёбывать эту пучину,
выкорчёвывать первопричину
одиночества – эту кручину
не по черепу и не по чину, –
5
если по мановенью пера
под личиною благополучья
обнажаются скрепы и крючья,
а душа, как барсучья нора,
несуразна, тесна и сыра, –
там, цепляясь за корни и сучья,
сгинут и не такие созвучья,
прежде чем доведут до добра
и сестру сотворят из ребра.
6
В кинозале тепло и темно.
В самом деле, не все ли равно,
что за зрелище хлещет с экрана!
А не в глаз попадает, так в бровь,
ах, про что же, как не про любовь, –
как не сетуй и не прекословь,
а всё прочее бренно и странно.
7
Лицедейства затверженный след,
отороченный речью просвет,
упакованный на пуповине...
Замесили на пене и глине
созерцанья отвар и раствор –
и статисты все как на подбор,
и солисты легки на помине.
8
Ничего не попишешь, изволь
исполнять вожделенную роль
и участвовать в сладостной сваре...
Героиня сегодня в ударе!
Так бывает порой хороша
лишь хлебнувшая лиха душа,
промотавшаяся до гроша,
до последней струны на кифаре.
9
А герой – молоко с кисёлем,
исполать ему и поделом!
Он у публики ищет прощенья
за огрехи перевоплощенья.
А когда попадает впросак,
то с досады виском о косяк –
хоть кого проведёт на мякине! –
тем не менее дело табак,
и желают ему всяких благ
голубые глаза героини.
10
Посудите, да кто он такой,
чтобы тешить заемной тоской
и, смущая душевный покой,
шлифовать назидания грани,
чтобы членораздельную речь,
как факир, из гортани извлечь
на крутом и открытом экране.
11
Общепризнанно присно и ныне,
что смирение паче гордыни,
а гордыня как раз не в чести, –
что-то вроде полена в камине
или кружева на кринолине,
и не выпестовать в мезонине,
и с латыни не перевести.
Нет уж, дудки! ищи дураков
среди отроков, беглых с урока,
коим будет во веки веков
одинаково и одиноко.
12
Я сполна заплатил за билет.
Где тут выход, которого нет?
Где тот ветер на кровлях и кронах
и созревший в проёмах оконных
кисло-сладкого света ранет,
чтобы несколько ласковых лет
длился ежевечерний сюжет,
чуть подрагивая на препонах.
13
Этот свет, этот сад, этот плод
видит око, да сердце неймёт,
ни умаслить его, ни растрогать.
То ли дело судьбу напролёт
смаковать целый день, круглый год,
коли смолоду не попадёт
в этот мёд одиночества дёготь.
14
Между тем просветлела лицом
героиня – и дело с концом,
что отчаиваться раньше срока!
Под уздцы привели огольца,
благоденствуют в поте лица,
досмотрел бы и я до конца,
кабы не было так одиноко.
15
Иго – благо, и бремя легко,
кабы не было так далеко
от сиротства до кровного братства.
Тары-бары – и в тартарары! –
и нельзя выходить из игры,
прежде чем промотаешь дары
одиночества ли, домочадства...
Воспитание чувств
Прахом пошло и растаяло,
как на ладони снежинка,
всё, что томило и маяло,
важенка, неженка, жинка.
Гнали тебя, словно беженку,
по миру из дому к дому, –
по бездорожью, валежнику,
гравию и бурелому.
Вякали, тюкали, тыкали...
Я ли не знаю, что это
значит: в ночи, где хоть выколи
глаз, дожидаться рассвета.
Если во тьме от уныния
что и спасало порою,
то восходящая линия
зарева не за горою...
В лапы счастливого случая
загнаны шалой судьбою
и сведены, как созвучия,
мы воедино с тобою.
И препираться, не очень ли
много мы дров наломали
и валунов наворочали,
нам подобает едва ли.
Дошлая разноголосица –
обиняки и намёки –
к делу уже не относится,
если мы не одиноки.
А на краю неизбежности
нам ничего и не надо,
кроме надежды и нежности,
и безмятежного взгляда.
Баллада
Сперва он учился в Школе
живописи, ваяния и зодчества,
потом – в академии одиночества,
и очутился на воле.
Что-то делал – парень не промах! –
но тех работ не показывал,
а в паузах между заказами
писал портреты знакомых.
Лица его моделей
были как земли целинные –
добрые, грустные, длинные,
длинней, чем на самом деле.
Недаром моя невеста
влюбилась в него, на беду мою.
Поэтому он, я думаю,
всё бросил и снялся с места.
Уехал. Пропал из виду...
Отвергла ещё до рождения
ребёнка мое предложение.
Ему – не простила обиду.
Давал о себе всё реже
знать... Умер от рака печени.
Работы его замечены.
Две – выставлены в Манеже.
Ни зависти нет, ни злости.
Стою с удовлетворением
перед его творением.
Потом отправляюсь в гости.
Ухоженная жилплощадь.
Портрет. Аккуратная рамочка.
И дочка щебечет: «Мамочка!
Я нарисовала лошадь».
Подмалёвок
Стансы
1
После проверишь по календарю –
время ли наше ещё не настало
или растаяло... Я не корю
да и оправдываться не пристало, –
как бы там ни было,
благодарю.
2
Точно юродивый, корчась на дне
невыносимого ожесточенья,
я бы отчаялся,
если бы не
мания точного обозначенья,
душу выматывающая мне...
3
На протяжении стольких недель
я изнывал от стыда и безделья, –
лучше уж сызнова,
словно с похмелья,
добрый глоток приворотного зелья
чем тягомотина и канитель.
4
Потолковать на одном языке
и задержать, замыкая излуку
жеста прощального, руку в руке –
только и радости…
Экую муку
принял за веру двуликому звуку, –
стоит ли – благодарю за науку! –
упоминать о таком пустяке.
5
Ладно бы – около, а вдалеке
ты сострадание тратишь впустую.
Только и лирики – в обиняке...
Но не тушуйся – на воду не дую,
да и ожёгся не на молоке.
6
А на поверхности черновика
ты на помине, как птица, легка:
всё, что таилось под спудом,
в глубоком
обмороке цепенело, пока
ты не появишься издалека,
хлынуло неудержимым потоком, –
7
хоть до того, как отсохнет рука,
в поте лица разливай по опокам!..
Лишь бы тебя не спугнуть ненароком,
а вдохновение выйдет нам боком,
в том-то и дело, что наверняка.
8
С бору да с сосенки,
с миру по нитке –
вот и свидание накоротке...
Вот на таком и ожёгся напитке –
кислом и пресном крутом кипятке, –
истовой и нестерпимой попытке
потолковать на одном языке.
9
В сумерках лампы коснёшься рукой –
и на холсте у тебя в мастерской
вспыхнет подобие желтофиоли.
Где это видано, чтобы такой
охрой кропили, стрекали, кололи
хрома и кобальта львиные доли?
Впору опростоволоситься, что ли,
если не хмель на холсте, а левкой.
10
Всё не по нраву – растрава одна! –
яства на званом пиру крохобору...
Темени и светотени полна,
переминаешься у полотна, –
в кои-то веки повеситься впору,
если ты скаредна и холодна.
11
Тает восторженность, как леденец,
и расторопная предосторожность
глянец наводит на каждый торец
воображения...
Ах! наконец
мы упустили и эту возможность.
12
Старый кофейник на плитку поставь,
всё остальное на память оставь,
но и за пазухой у наважденья
не загораживай вящую явь,
как на портретах времен Возрожденья.
13
Стоит ли выделки жизненный путь,
ежели нечем порадовать друга,
а припеваючи лиха хлебнуть –
дело нехитрое,
не обессудь,
сиречь не слишком большая заслуга.
14
Поздние празднества в поте лица,
судорожные ужимки, повадки,
каверзы красного ради словца,
сущие салочки, жмурки и прятки –
выеденного не стоят яйца.
15
А за гармонию кто бы другой
в неукротимой земной круговерти
ратовал –
тоже мне, вилла Альберти!* –
если и Блок за неделю до смерти
бюст Аполлона разбил кочергой.
16
Что ж ты стоишь ни жива ни мертва,
точно сошла невзначай с натюрморта?
– Батюшки светы! – заслышав едва. –
Что за оказия скверного сорта... –
Но полоса отчуждения стёрта,
и возникает во тьме естества
завязь привязанности и родства...
Жалко, живёшь на куличках у чёрта.
17
Если тебе до сих пор невдомёк,
только о том и молю тебя, чтобы
я ни о чём больше думать не мог,
кроме твоей несусветной особы.
Выволоки на такой солнцепёк,
18
где ощущается кровная связь
с миром
и на сердце – ясно и чисто,
чтобы лицом не ударили в грязь,
под придорожным кустом остролиста
или боярышника развалясь...
19
Самое главное – трепет и честь.
Всё остальное, какое ни есть,
жестом безудержным и безмятежным
преображается в нежную весть
и возникает откуда невесть,
стоит опомниться, дух перевесть –
и невозможное слить с неизбежным.
———
* Место встреч кружка ренессансных гуманистов под Флоренцией.
Точка зрения
Как живётся вам с земною
Женщиною, без шестых
Чувств?..
Хоть и смахивает стих
на обетованный берег,
с женщиною без шестых
чувств живётся без истерик,
без конвульсий и гримас,
судорог и катавасий,
выставленных напоказ,
выписанных на левкасе...
Неизвестно, что за круг
отведён в аду y Данта
приносившим друга друг
в жертву идолу таланта.
Невеликодушен жест,
но живётся, право слово,
с женщиною без божеств
как за пазухой Христовой.
...Хоть и набивают пять
первородных чувств оскому,
не пристало их шпынять
совершенному шестому,
потому что, если речь
не о том, какого рода
бремя сбрасывает с плеч
взявшая своё природа,
по завязку и пяти
чувств хватает бедолагам,
чтобы по миру идти
бережным и нежным шагом...
(Может статься, в том и суть,
чтобы через пень-колоду
эту канитель тянуть
добродетели в угоду.
Строя храмы на любви,
а не на крови любимых, –
как душою ни криви,
всё едино не щадим их.)
Повторяю – и пяти
чувств достаточно с лихвою,
чтобы поле перейти
и войти в листву и хвою.
...Что касается земной
женщины, то, знать не зная
никакой судьбы иной,
нежели стезя земная,
не за участь, а за честь
почитаю честь по чести
жизнь прожить и век провесть
с этой женщиною вместе...
Сколько спеси – не сочти
за попрёк – в твоем контрасте.
...Словом, счастливы. Почти.
А несчастливы отчасти.
Памяти сверстницы
Ещё за горло не взяла
и душу не опустошила
производительная сила
творительного ремесла, –
но в городе, где ты жила,
в том здании, где ты служила,
заныла становая жила,
и ноша стала тяжела.
Уж лучше мне тебя забыть,
чем вспоминать с такой тоскою,
и память о тебе забить
мемориальною доскою,
да родственникам пособить
безделицею хоть какою.
Кредо
Ещё постоим на бравурном ветру,
ещё поиграем в дурную игру,
которая в меру и в пору
арапу, треплу, щелкопёру.
Ещё, говорю, на своём постоим,
ещё посмакуем отечества дым,
напрасным потешимся даром
и горним подышим угаром.
Ещё погадаем – пропал или пан…
Не прежде, чем выморочный чистоган
удачи просадим вчистую,
мы чашу отставим пустую.
Помесим суглинок, потопчем подзол,
ещё проспрягаем заядлый глагол
в угоду глубокому небу
и твёрдой земле на потребу.
Ещё похватаем с тобой через край, –
что вольному воля, спасённому рай,
за чистую примем монету,
тем паче что выбора нету.
Хватило бы пороху – в ноги упасть…
В таком пустяке, как безумная страсть,
ни Роза, ни Лиза, ни Аза
от нас не услышат отказа.
Какие ни баяли бы рубаи,
на то мы и стреляные воробьи,
чтоб нас провели на мякине
лирические героини.
Как только последний исполнится час,
за тех, кто легко обойдётся без нас,
замолвим словечко – на то нам
и голос с любым обертоном.
Но если чего и на Страшном суде
не скажем, так это: не ведали-де…
Ни байки, ни басни, ни сказки
не будет у нас для отмазки.
В какую бы мы ни дудели дуду,
что думали, то и имели в виду,
что чаяли в самом начале,
на том до конца и торчали.
Мы знали, что делали. Что бы мы ни
творили, в ответе мы будем одни
и не постоим за ответом…
И хватит, и хвати об этом.
Очертя сердце
Уже седьмые сутки кряду
по заведённому канону
бессонница ведёт осаду,
рассудок держит оборону.
Видения обстали скопом,
настырным скопищем бесплотным, –
я сам себе калейдоскопом
кажусь и кругом поворотным.
В то время как во внешнем мире
видавший виды холодильник
урчит, соседи по квартире
храпят, пульсирует будильник –
из глубины, из-за излуки
артериальной беспрестанно
подкопа гомозятся звуки,
удары слышатся тарана.
Сомкнув ряды, идут минуты
обыденные, рядовые…
Того гляди, падут редуты
и рухнут стены крепостные.
Вот-вот развалится твердыня,
и ты появишься на сцене,
как разъярённая княгиня
под стенами Искоростени.
И будет рать моя побита,
а память заревом объята…
Ты только тем и знаменита,
что я любил тебя когда-то.
И если нет мне оправданья,
то милости, по крайней мере,
прошу – объявлены страданья,
и заняты места в партере.
Не жду пощады и не строю
иллюзий. К штурму всё готово…
Всего и было за душою,
во всяком случае, святого
всего и было – ты да слово,
и слово всё-таки за мною.
И если предстоит расплата,
то это вся моя защита…
Ты только в том и виновата,
что не избыта.
Всё остальное – трали-вали.
С тобою нас не бог рассудит
и не нарсуд, –
хотя едва ли
тебя от этого убудет,
но уж какие ни скрижали,
что начертаю, то и будет.
И только так, как нарисую,
отныне будет и вовеки.
Тебя ещё помянут всуе
в какой-нибудь библиотеке.
В припадке умоисступленья
такое сказану порою,
что будущие поколенья
начнут детей стращать тобою.
Хотя не поведёшь и бровью,
ещё не то себе позволю…
Я обделил тебя любовью,
хлебни хоть ненависти вволю.
Пускай тебе и карты в руки,
в конце концов, кто ты такая,
чтобы куражиться, на муки
живую душу обрекая.
Пусть облик твой – мадонна Литта,
а голос – фуга и токката,
ты только тем и знаменита,
что я любил тебя когда-то.
Пересекла твоя орбита
теснину старого Арбата,
тебя сопровождает свита –
глумлива и придурковата,
но с точки зрения Главлита,
по мнению Госкомиздата,
ты только тем и знаменита,
что я любил тебя когда-то.
Что мне за радость в этой фразе?
Но если сводишь счёты с ближним,
то даже рифм разнообразье
оказывается излишним.
Минувшее под корень сжато
и обмолочено, как жито –
из этого конгломерата,
который крепче монолита,
я изваял тебя, утрата,
и светом высветил софита.
Твоим отсутствием набито
битком,
пустое место свято…
Подобная эквилибристу,
преодолевшему препону,
бессонница идёт на приступ,
рассудок держит оборону.
Ремесло
I
Неймётся, не спится,
невнятица, смута...
Прозренья минута –
и в сердце зарница
и сполох!.. и снова
ни слуху, ни духу.
И олух, как муху,
ухлопавший слово.
II
Смешав цветочную пыльцу,
степные травы и коренья,
варило зелье озаренье –
и дело близилось к концу, –
но потрясённому творцу
ещё мерещились во мраке
узоры, образы и знаки,
которым солнце не к лицу.
* * *
На улице метель мела
и падал снег куда попало,
а ты плечами повела –
мол, дела нет и горя мало! –
и выпорхнула из подвала,
как зимородок из дупла.
Потом озябла и взяла
взаймы у аэровокзала
толику малую тепла,
а миг спустя опять пропала
из поля зрения стекла,
бетона, камня и металла, –
позёмка языком слизала,
на нет метелица свела.
* * *
Он откуда родом,
этот лад и строй,
под небесным сводом
на земле сырой?
Маловероятен,
еле различим
в толчее понятий,
смуте величин.
В сутолоке этой
то ли звук отпетый,
то ли беглый блик
нас на ставке очной
со звездой полночной
тянет за язык.
* * *
Пелена за оконной рамой,
заколочена дверь скобой...
Прежде чем мы пойдем с тобой
с немудрёной семейной драмой
за спиною куда незнамо,
как калики с пустой сумой, –
попытаемся, ангел мой,
докопаться до сути самой.
Потолкуем о том, о сём,
побеседуем обо всём,
от чего ни следа, ни звука
не оставим и не спасём;
перемелется – будет мука,
мы едва ли её снесём.
Отпуск
Одиннадцать месяцев перетерпеть – и
на пляже понежиться всласть,
где толстые тёти и малые дети,
и яблоку негде упасть.
Где солнце в зените, а море в надире
и облачный шлях – посреди...
А ты на борту бытия, на планшире
сиди и ставриду уди.
Снимай наслаждения пенки и сливки
и душу заблудшую тешь,
пока аквилон у волны на загривке
форсирует водный рубеж.
До срока, который в обратном билете
указан, любая напасть
тебе представляется в розовом свете,
а море до времени держит в секрете
одну из немногих на этой планете,
действительно сильную страсть.
* * *
Охотно
сходились
на узкой
дорожке один на один
с простором родимых равнин
надежды поэзии русской.
Глаза продирали светила,
судачили – чья же взяла?
...А слава пришла и ушла
и только
в сенях
наследила.
* * *
А я-то думал: ты да я,
версты четыре до жилья
ближайшего, – чего же лучше!
А между тем сгущались тучи.
А я надеялся – вот-вот
ты скажешь: ветреная Геба...
и как по маслу всё пойдёт,
а ты воды набрала в рот,
дрожа от холода и гнева,
и вышло всё наоборот.
А после этого поди
попробуй, памяти внимая,
любить грозу в начале мая
степи бескрайней посреди.
* * *
Я до приключений не охоч,
но неразличима крыша дома,
под которой скоротали ночь,
а тропа узка и незнакома.
И не то меня уводит прочь,
то ли мной на поводу ведома
женщина, идущая обочь,
вспыхивающая, как солома.
Пожили почти что в шалаше,
побывали чуть ли не в раю,
а из пригородной электрички,
точно из чистилища душе,
скатертью дорога – в Верею,
восвояси, к чёрту на кулички....
* * *
Давай с тобой поговорим всерьёз.
Мучительны души метаморфозы,
но ты не плачь, не бойся, вытри слёзы.
Не надо тратить понапрасну слёз.
Бог весть куда тебя запропастят
немилых память и недобрых милость,
и, лишь бы только ты угомонилась,
грехи отпустят, радости простят.
Воображала и ворожея,
ты ложка мёда в бочке бытия!
Чего бы знаменья ни означали,
весомой нет причины для печали, –
не надо плакать, милая моя.
* * *
Помню имя твоё
и улыбку на яркой афише...
А в последнем письме:
«....не суди, да не будешь судим»:
А на то, что «искусство
всего остального превыше»,
не пристало пенягь,
даже будучи всем остальным.
А теперь, что ни год,
наши доводы глуше и тише.
Что ни день, всё бледнее
глаза застилающий дым.
...Даже если искусство
немногого стоит,
над ним
безупречное небо,
каким оно видится с крыши.
* * *
Какие ни чини –
сквозь все препоны
просвечивают дни
и ночи оны.
Околица сельца,
гуртом – ракиты...
Прекрасного лица
черты размыты.
Откуда ни возьмись
возник Возничий –
и высунулась высь
на посвист птичий.
Но выморочен свет,
а звук так робок, –
того гляди, на нет
сойдут бок о бок.
Окутывает сон,
как полость козья.
С позёмкой в унисон
зудят полозья.
А что там на уме
у дальней дали –
помстится лишь во тьме,
и то едва ли...
(Цветочная пыльца
летит на плиты.
Прекрасного лица
черты размыты.)
Досады не снесу,
с того и взвою,
что тихо, как в лесу
перед грозою.
* * *
Поистине, как ни крути,
придётся в конечном итоге
идти по прямому пути,
а не по окольной дороге.
Ни службе,
ни дружбе,
ниже
нечаянной музыки звуку
тотчас не предложишь уже,
как суженой, сердце и руку.
* * *
Ты ко мне добра,
но имей в виду,
не пора, пора –
со двора иду.
От ретивых слов,
шебутных речей
я спешу на зов
неизвестно чей.
У чужих ворот,
у ночных ракит
колобродит тот,
кто за мной стоит.
Уж какой ни есть,
а не даст пропасть...
И бумаги десть,
точно волчья пасть.
Оторопь берёт,
и спирает грудь, –
значит, мой черёд,
а не чей-нибудь.
И кого невесть
я ищу-свищу
и благую весть
на гopбy тащу.
Лишь на то крыльцо
не подняться мне,
где твое лицо –
купина в огне.
Теневая черта
Блажил и куражился ветер,
и тополь ходил ходуном.
Тем временем смерклось на свете
и стало темно за окном.
А в проруби телеэкрана
подёрнуло рябью фантом,
как после второго стакана
с недобрым креплёным вином.
Упало в сети напряженье.
Бульвары вошли в берега.
Скукожилось изображенье –
и амба! И вся недолга.
Одни грозовые разряды
во тьме над моей головой
ширяли почти как снаряды
над линией передовой.
Подкинуло, как на ухабе, –
и кубарем в тартарары!
Разверзлись небесные хляби –
и хлынуло как из дыры.
И хлынуло как из прорана...
И стало отчетливо мне,
что, как без тебя ни погано,
но выдюжить можно вполне.
А чаянья и упованья
остались на том берегу
грозы – на плацдарме сознанья,
что жить без тебя не могу.
...Постылые домыслы эти
непереносимей всего
и были бы, кабы на свете
тем временем не рассвело.
Блудный сын
Затягивало в сон,
клонило в дрёму...
– Пора, – подумал он, –
удрать из дому...
Но недостало сил,
не тут-то было.
То дождик моросил,
то вьюга выла.
Среди сырых осин
и сирых сосен
остался блудный сын.
Настала осень.
Порою взаперти
брала досада,
что никуда идти
уже не надо.
Рассудок, наконец,
острее бритвы,
а сердце не боец,
а поле битвы.
На перепутье
Александру Тихомирову
1
Не сетуй на меня, высокий слог…
Но если ты действительно высок,
попробуй роковой метаморфозы
не претерпеть от лошадиной дозы
так называемой житейской прозы,
которую чурался, сколько мог.
Чем чёрт не шутит, если дремлет бог.
2
С чего начать? Ума не приложу...
Досужему воображенью впору
рассудок уподобить витражу
и, рот разиня, шляться по собору,
где все любезно пристальному взору,
но подмывает потерять опору
и, рыжую перемахнув межу,
топча ботву, брести по косогору...
3
А между тем, едва зайду за грань я,
то сразу же стушуюсь – вот те на! –
в гортани, словно каша из пшена,
истошная застыла тишина,
а участь всё ещё не решена –
ни знаменья, ни предзнаменованья.
4
Иначе говоря, когда жена
обескуражена, раздражена, –
ещё одна иллюзия разбита,
попав обыденности под копыта,
и дочь, помимо прочего, больна,
всё куксится и ест без аппетита.
5
Пожалуй, в самом деле в сторожа
придется подаваться, обнаружа,
что даже тьма кромешная и стужа
крещенская радушна и свежа,
а вечность, знать не зная рубежа,
окрестности заснежа и завьюжа,
по-прежнему нежна и неуклюжа,
гармонии одной принадлежа.
* * *
С иголочки обнова хороша,
как в Марбурге, – от пяток до затылка,
а обветшав, не стоит ни гроша…
не по нутру мне эта предпосылка!
На что уж троп затрёпанный – душа,
а мы его употребляем пылко:
так воодушевляет алкаша
сознание, что спрятана бутылка
на чёрный день. Но о каком из дней
не скажешь, что грядёт ещё черней, –
так стоит ли испытывать терпенье!
Но если уж надежда на спасенье
припрятана, не прикасайся к ней, –
успение ещё не воскресенье…
* * *
Разлука, музыка, зима
нагрянула, свела с ума,
попутала, опустошила,
завьюжила, заворожила,
ошеломила, завлекла,
завесила, заволокла
и не оставила ни звука –
зима, безмолвие, разлука.
* * *
Как в засаде сидя, звука, знака ли
жду – вломился чтобы, словно лось…
Лучшие мои денёчки плакали,
остальные – оторви да брось.
Из того, что на роду каракули
предрекали, кое-что сбылось,
и особой нет нужды в оракуле –
остальное сбудется авось.
Сводит челюсти от безразличия,
тем не менее ещё пока
отличу личину от обличия,
не сыщу в ничтожестве величия…
Впрочем, если соблюдать приличия,
разница не слишком велика.
Романс
Прежде чем ладью мою
разобьёт о сваю,
я не то чтобы пою,
но не подпеваю.
Если в колосе я – ость,
а уже не завязь,
то испытываю злость,
но отнюдь не зависть.
Да какая там ладья?
Что ещё за нива?
Не иначе начал я
говорить красиво.
Около – о том и сказ! –
брода через Лету,
где, вестимо, есмь и аз,
кого только нету.
* * *
А в Библии красный кленовый лист…
А. А.
Не оправился ещё после гриппа, –
входит женщина – не баба, а липа,
имитация царицы и цацы…
Мне с младенчества везло на эрзацы.
Даже если проглядишь все гляделки,
отличить оригинал от подделки
в наше время нелегко. И агаты,
и смарагды иногда – суррогаты.
Самозванкам возмутительноглазым
искони предпочитал ясный разум.
Здравомыслие меня погубило –
вот опять меняю шило на мыло.
Постоянная нужда в макияже
у изъяна, червоточины даже,
безупречное же и в затрапезе
всё равно как полотно Веронезе.
Не тушуйся, говорю, всё в порядке,
просто я ещё горю в лихорадке,
38 у меня и 4…
Смутно, словно сквозь помехи в эфире,
слышу бестолочи полные речи…
Точно угли горячи эти плечи,
эти груди обжигают ладони
(я уже не заикаюсь о лоне).
И в любви не избежать плагиата:
что ни поза, что ни жест, то цитата
из неведомого пращура-предка.
Нечто новое случается редко,
а фонетика бедней, чем у птички,
у не в меру современной москвички
и синантропихи – ахи и охи
не зависят вообще от эпохи.
А поскольку хоть ты лопни, хоть тресни,
всё равно не сочинить «Песней Песни»,
из объятия, где плотно и гладко,
выпадаю, как из книги закладка.
Всё равно, с чего начать, – лишь бы кончить.
Отчего кленовый лист перепончат,
я не знаю, да и что мне за дело…
Тем не менее пришла, одолела.
* * *
Не то беда, что обнищал, –
для реплик в стиле: «Караул!»
не нужен даже стол и стул, –
а то, что всех, кому вещал,
мне кажется, я обманул,
хоть ничего не обещал.
© Алексей Королёв, 1980–2014.
© 45-я параллель, 2014.